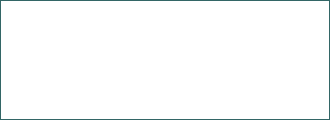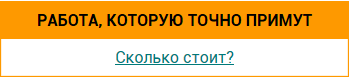Тема Первой мировой войны в "Дневниках" В. Винниченко: осмысление и реализация травматического опыта
Анализ дневниковых записей известного украинского писателя, художника, политического деятеля Владимира Винниченко, освещающих начало Первой мировой войны. Исследование специфики дневникового осмысления массового травматического опыта первых дней войны.
| Рубрика | Литература |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 01.02.2018 |
| Размер файла | 49,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ТЕМА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В «ДНЕВНИКАХ» В. ВИННИЧЕНКО: ОСМЫСЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОПЫТА
В.Д. Наривская
Днепропетровский национальный
университет имени Олеся Гончара
Проаналізовано щоденникові записи відомого українського письменника, художника, політичного діяча Володимира Винниченка (1880, Україна, Єлисаветград (нині Кіровоград) - 1951, Франція, Мужен), що висвітлюють початок Першої світової війни. Предметом дослідження є специфіка щоден- никового осмислення масового травматичного досвіду перших днів війни, пережитих письменником у Катеринославі (нині Дніпропетровськ). Розкрито вплив травми війни як на масову свідомість, що проявилось у радикальній зміні моделі людської поведінки, так і на творчу, реалізовану у формуванні основ нового художньо-естетичного і щоденникового мислення.
Ключові слова: щоденникові записи, Перша світова війна, травма війни, травматичний досвід масової свідомості, перебудова творчої свідомості, ек-фрастичне сприйняття світу.
Анализируются дневниковые записи известного украинского писателя, художника, политического деятеля Владимира Винниченко (1880, Украина, Елисаветград (ныне Кировоград) - 1951, Франция, Мужен), освещающих начало Первой мировой войны. Предметом исследования является специфика дневникового осмысления массового травматического опыта первых дней войны, пережитых писателем в Екатеринославе (ныне Днепропетровск). Раскрывается влияние травмы войны как на массовое сознание, проявившееся в радикальном изменении модели человеческого поведения, так и на творческое, реализовавшееся в формировании основ нового художественно-эстетического и дневникового мышления.
Ключевые слова: дневниковые записи, Первая мировая война, травма войны, травматический опыт массового сознания, изменение творческого сознания, экфрастическое восприятие мира.
Im Beitrag werden die Tagebuchnotizen des namhaften ukrainischen Schriftstellers, Malers und Politikers Vladimir Vinnicenko (1880, Ukraine, Elisavetgrad (heute Kirovograd) - 1951, Frankreich, Mougins) analysiert, die dem Beginn des Ersten Weltkrieges gewidmet sind. Gegenstand der Studie ist die Spezifik der im Tagebuch festgehaltenen gedanklichen Verarbeitung der massenhaften traumatischen Erfahrungen der ersten Kriegstage, mit denen sich der Schriftsteller in Ekaterinoslav (heute Dnepropetrovsk) konfrontiert sah. Gezeigt wird sowohl die Wechselwirkung zwischen Kriegstrauma und Massenbewusstsein, die in der radikalen Veranderung des Modells des menschlichen Verhaltens zum Ausdruck kam, als auch der Einfluss der traumatischen Erlebnisse auf die kreative kunstlerische Gestaltungskraft, die ihren Ausdruck in der Schaffung von Grundlagen einer neuen kunstlerisch- asthetischen Wahrnehmung und einer fur den Bedarf eines Tagebuchs weitestgehend angepassten Denkweise fand.
Schlagworter: Tagebuchnotizen, Erster Weltkrieg, Kriegstrauma, traumatische Erfahrung des Massenbewusstseins, Veranderung im kttnstlerischen Denken, ekphrastische Wahrnehmung der Welt.
The article analyses the diary entries of the famous Ukrainian writer, artist and politician Vladimir Vinnychenko (1880, Ukraine, Elisavetgrad (now Kirovograd) - 1951, France, Mougins) that cover the events of the beginning of World War I. The research subject is the specifics of diary conceptualization of the mass traumatic experience during the first days of war having been overcome by the writer in Yekaterinoslav (now Dnepropetrovsk). The influence of war-time trauma on each of mass consciousness manifested in radical changes in human behaviour pattern and creativity being implemented in setting the stage for new artistic and aesthetic, and dairy thinking.
Keywords: diary entries, World War I, war-time trauma, mass traumatic experience, change of creative consciousness, ekphrastic world perception.
Художественное осмысление событий Первой мировой войны занимает довольно скромное место в мировом литературном процессе (в особенности в сравнении с литературным, кино- и теле- изображением баталий Второй мировой). До недавнего времени даже сам факт обращения к теме выдающихся мастеров поэзии и прозы (Гийом Аполлинер, Анри Барбюс, Александр Грин, Марсель Гро- мер, Александр Гумилёв, Жорж Дюамель, Франц Кафка, Осип Мандельштам, Осип Маковей, Марсель Пруст, Жан Ренуар, Эрих Ремарк, Алексей Толстой, Карел Чапек, Иван Шмелев и др.) рассматривался не столько как самодостаточное явление, сколько в контексте художественно-эстетических исканий писателей в целом. Как отмечал Вальтер Беньямин, «поток книг о войне, хлынувший на нас через десять лет», т. е. лишь к концу 1920-х гг., засвидетельствовавший «онемение людей, пришедших с фронта», тем не менее оставил после себя не только непревзойденные художественные образцы переживаний тотальной проницаемости Первой мировой (Э. Ремарк, С. Фицджеральд, Э. Хемингуэй, И. Шоу), но и сформированную милитаризованным ХХ веком проблему взаимодействия войны и творчества, как бы кощунственно это ни звучало. «Разрушительносозидательные» смыслы войны, отрефлексированные во множестве зарубежных и отечественных исследованиях авангарда, экспрессионизма, футуризма эстетизировали ее образ, создаваемый в литературе и искусстве от античности до современности. Но лишь в преддверии даты начала войны, гуманитарная мысль активизировалась в попытках рассмотреть Первую мировую войну в общей цепи событий ХХ века См.: Гаспаров Б. М. Смерть в воздухе (к интерпретации «Стихов о неизвестном солдате») / Б. М. Гаспаров // Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы ХХ века. - М.: Наука, 1994. - С. 213-241; Литература и война : век двадцатый : сб. ст. к 90-летию Л. Г.Андреева. - М.: МАКС Пресс, 2013. - 332 с., в котором опубликованы: Белобратов А. В. Где находился очаг мировой войны? Роберт Музиль о Первой мировой и ее истоках; Потехина И. Г. «В стальных грозах» Эрнста Юн- гера: Первая мировая война и проблема консервативного модерна в немецкой литературе; Зусман В. Г. Кафка и Первая мировая война; Анцыферова О. Ю. От войны до войны. Творческий путь Генри Джеймса; Таганов А. Н. Война как эстетический феномен в творчестве Марселя Пруста; Гирин Ю. Н. Образ Первой мировой войны в поэтике авангарда; Зиновьева Л. Ю. Битвы прошедшие и грядущие в поэзии Осипа Мандельштама и Готфрида Бена («Стихи о неизвестном солдате» и «Потерянное “Я”»; а также: Герасимова И. Ф. Героизация казачества в русской батальной лирике периода Первой мировой войны / И. Ф. Герасимова // Вісник Дніпропетр. ун-ту ім. Альфреда Нобеля. - 2014. - № 1 (7). - С.162-167. и как величайшую трагедию в мировой истории, и как «бродильное начало культуры» [16, с. 7], отчасти опираясь (в подтексте) как на оправдательный историко-литературный факт, открывшиеся возможности возвращения ко многим проблемам литературы «советской цивилизации», к упущенным литературоведческим возможностям, прежде всего в осмыслении мемуарных, дневниковых источников, находившихся ранее, большей частью, под строжайшим запретом. С позиций обновлённых методологических подходов - исторических и литературоведческих - сформировалось современное вм- дение темы Первой мировой, ее идеизации, в постижении ее сущности как идеи, следовательно, как зрительного образа (в собственном смысле понятия), с акцентом на писательские документальные свидетельства. Среди имеющих читательскую известность, общекультурную значимость на первом плане переписки Марселя Пруста, Эрнеста Хемингуэя, интервью Генри Джеймса, статьи и в особенности дневники Роберта Музиля, Франца Кафки, а также украинского писателя и политического деятеля Владимира Винниченко, для которого записи о войне были сродни с тем, о чем говорил Борис Пастернак - «записной тетрадью человечества», всего «вековечного» [13, с. 252].
Первые дневниковые записи В. Винниченко относятся к 1911 г., с большими временными перерывами, что несколько не соответствовало определению дневника как ежедневника, пока не имеющего веского тому объяснения Составитель дневников, диаспорный критик Г. Костюк высказал предположение об отсутствии таковых. По его мнению, «можливо, за ці емігрантські, дуже наснажені літературною і політичною діяльністю роки Винниченко нотатників не провадив. А можливо, що, вибираючись весною 1914 року нелегально в Україну, він свої записники залишив комусь із своїх добрих друзів. Коли він не повернувся незабаром, як було плановано, ці записники пропали» [10, с. 12].. Но логика развития дневникового мышления писателя свидетельствует о длительном его созревании и внезапном творческом озарении, выраженном в принятии важного для себя решения. Лишь в мае 1914 г. В. Винниченко восстанавливает ведение дневника и после продолжительной паузы в ноябре пишет: «Я рішив, як не щодня, то якомога частіше вести щоденник. Це сприяє самоаналізі й самоорганізації, примушує зупинятись над собою і перевіряти. Крім того це є та увага, те зупинення над життям, якого так треба для щастя. Розум здатний зупиняти себе й усю істоту над моментами життя, прислухатись до них, вслухуватись, освітлювати їх, як з ручного електричного ліхтаря, пучком світла - такий розум є великий помічник щастя» [3, с. 200]. Эта запись воспринимается не как частный момент творческого бытия, но как новаторская концепция дневникового мышления с мощным философским обоснованием, что было в духе эпохи и что задавало тональность записок, освобождая от суетности, продуцируя поиски своей дневниковой и художественной удовлетворенности (хотя «блаженная гавань» философии с годами для него становилась все привлекательней). Именно философской потребностью обусловлена интенция В. Винниченко всегда дистанцироваться от людей и событий, даже если он максимально к ним приближен. Смысл такой дистанции - освобождающий, позволяющий сфокусировать взгляд на ens и тем самым пребывать, отчасти, в состоянии некой отрешенности от мира, позволяющей оставаться наедине с Я.
В записи-решении вести дневник как своему инновационному запросу - антропологическому и творческому, писатель избрал ключевым словом «внимание» («увага», выделенного в тексте курсивом самим автором), философский концепт т. е. направленность и сосредоточенность психической деятельности на ведении дневника как деятельности, что соответствовало научным разработкам конца ХІХ - начала ХХ века, в которых самые различные проявления психики объяснялись с помощью внимания. Но главное, открылась возможность дифференцировать «новое» в соответствии с состоянием сознания. Для этого нужна была и новая форма творческой деятельности - дневник, который позволял произвольно чередовать «новое», возвращаться к нему с позиции временной дистанции, углублять, развивать или отказываться от некоторых своих положений. Этим можно объяснить продолжительные паузы - «остановки перед жизнью» - и рассматривать их как специфику ведения дневника. Независимо от специфики обобщаемого материала, временное расстояние от события, воспринимаемое уже как феномен памяти, подвергается эстетизации, выраженной в эстетическом структурировании материала не столько как следствия того, что дневник велся писателем, сколько особенностью памяти эстетизировать прошлое, т. е. спецификой исторического мышления как эстетического [5, с. 6-7]. В этом контексте очевиден смысл введенного в концепцию дневникового сознания понятия «пучок света», не только в качестве знания законов оптики, формирующих оптику самосознания, но «эстетики зрения» в целом - слагаемого мировоззрения Винниченко-художника (безусловно, этот вопрос может быть предметом детального изучения искусствоведами). Мы лишь укажем на то очевидное, что просматривается и в концепции Винниченко, и в записях, касающихся начала Первой мировой войны, в особенности «цветовых» ее изображений.
Принятие решения вести дневник у В. Винниченко соотносимо в определенной степени с понятием «философии поступка» (термин М. Бахтина), с более пристальным вниманием не только к своей «Другости», но и к травматически меняющемуся миру. Первая мировая война была тем «моментом» большой жизни В. Винниченко, который предполагал необходимость «участного переживания» - в бахтинском концептуальном смысле, реализованного в дневниковых записях. Их значимость несомненна, поскольку охватывает весь период войны с переходами к революциям, новым войнам. Тем не менее, по ним невозможно представить объемную картину военных действий, баталий, определивших ход войны, событий на фронтах, судеб солдатских и военной элиты и т. п. В. Винниченко осознавал масштабность развернувшегося перед ним «потока жизни», осмысление которого в своей цельности пока не представлялось возможным, поэтому ему импонировал принцип «раздробляющего анализа» Дневниковые записи Винниченко сопровождаются «выписками из прочитанных книг и мыслями автора». Так они обозначены в издании, как бы подводя итог по определенному периоду записей. Начало систематических записей завершается цитированием работы Н. Лосского о А. Бергсоне, которым В. Винниченко был увлечен, а именно: «Взаимопроникновение состояний сознания, благодаря которому в настоящем сохраняется прошлое и преднамечается будущее, придает потоку жизни такой неделимости и цельности, что описание его становится невозможным, и потому ради целей практической жизни рассудок прибегает к раздробленному анализу, создает понятия о душевных состояниях, будто бы находящихся вне друг друга и непроницаемых друг для друга и превращает Я в связку таких состояний, на подобие связки прутьев веника, вместе с этим теряется представление о текучести душевной жизни и отвергается цельное Я» [12, с. 29]. Источник цитаты не указан ни в тексте дневника, ни в комментариях составителя. - политика, писателя, художника, но только внешне «непроницаемых друг для друга», но по сути своей взаимодействующих между собой, взаимодополняющих друг друга, но более всего обладающих эквипотенциальностью, способностью образовывать из моментов бытия самодостаточную, целостную картину мира.
Интерес к дневникам В. Винниченко вызван прежде всего тем, что в них нашли отражение события, связанные именно с началом войны. Если в литературе этот период художественно осмыслен в романах А. Толстого «Хождение по мукам», М. Шолохова «Тихий Дон», панорамно развернут как в жизни тыла, так и в батальных сценах, то в дневниках это представлено весьма скупо, но более полно и выразительно в вербально-визуальной его явленности, в особенной дневниковой констелляции антропного принципа восприятия войны как мировой трагедии, и эстетического, как нарушения мировой гармонии. Да и сам В. Винниченко в дневнике не отмечает того, как к нему пришло известие о начале войны, что обусловлено, вероятно, стечением многих неблагоприятных обстоятельств - активной политической деятельностью В. Винниченко был одним из основателей Украинской социал- демократической рабочей партии (декабрь 1905 г.)., преследованием царской охранки, частой сменой мест жительства и, по сути, жизнью нелегальной. Но более вероятно, с пониманием невозможности объяснения происходящего с традиционных позиций, в том числе и обыденных, что требовало формирования новых принципов онтологической когерентности. Известие о войне было пережито как крушение, с осознанием того, что мир рушится, ниспровергаются привычные ценности, но при этом возникает необходимость «обрести путь к бытию», а духовный взгляд на него становится свободным. Как известно, преследования заставили писателя-революционера выехать в Варшаву, а затем в канун войны приехать в Екатеринослав с целью принять участие в работе съезда, несмотря на угрозы ареста, но по причине предательства, доноса на него вынужден был стремительно покинуть город. И хотя пребывание в Екатеринославе было весьма краткосрочным, но напряженным, насыщенным событиями, потрясающими сознание, потому представляет собой важный момент жизни В. Винниченко, разделивший жизнь на «до и после», о чем свидетельствует запись от 23.Х, сделанная в вагоне поезда: «Справді, ніби втраченим раєм здаються мені часи нашого життя до Катеринослава» [3, с. 96]. Фактором, определившим членение событий жизни и, следовательно, форму, организующую описываемый/изображаемый мир, была война.
Стратегия пролегомен дневникового мышления обусловила направленность на осознание состояния человека, общества в период войны, «способность остановить себя» перед потоком жизни, хаотичной заполненностью пространства и «многообразием смутных образов», и безымянных, но «значительных лиц» (по Гоголю), из которых взгляд писателя/художника выделяет новые для себя типы, запечатлевая их и вербально, и визуально, в «портретных зарисовках». Автор дневника в описании событий войны обретает статус «совокупного лица» (по терминологии Макса Шелера), в соответствии с которым он предстает как отдельная личность на фоне «сообщества лиц», находясь как бы на втором плане, но вместе со всеми несет ответственность за происходящее. Поэтому совокупность лиц - это и связь переживаний, к тому же в определенной временной последовательности, а значит - история.
Значительность момента «до войны» соотносима с ощущением рая, вызванного созерцанием природы Приднепровья, красот Днепра с парохода на подъезде к Екатеринославу. Созерцание Днепра, его берегов, множества островов дало ощущение писателю/художнику единства духа и природы, расширения увиденного до размеров мира: «Далечінь безмірна, безмежна, і далеко-далеко в сіро-синявій млі забуті давні могили... Якась велика, передісторична, первісна мудрість і спокій у цій зеленій ширині, в цих вербах, похилих над зеленкуватими затоками. Мудрим спокоєм і певністю віє від віковічної лінії обрію, круглої, рівної, без хибно проведеної законами більшими ніж ті, що їх видають люди» [3, с. 58]. Жизнь в Варшаве оставила впечатление «чогось недокінченого, начорно накиданого» [3, с. 51]. Поэтому Винниченко вновь открывал для себя необъятные украинские просторы - «обрії» «далекий обрій», «далечінь» - представление о «безмерности» и «безграничности» мира, жизнь которого определяется течением Днепра и его неизменными стражами - ветряными мельницами, представляющими собой вербальные картины, «картины в раме» с живописными идиллическими мотивами без каких-либо предпосылок надвигающейся беды. Своеобразным подведением итогов «пароходного» бытия представляется признание писателя/философа/художника: «Я сиджу і ловлю все в душу, як у великий невід, і благословляю все, що попадає в нього» [3, с. 59].
Непосредственная встреча с Екатеринославом начинается с рабочих окраин мощного промышленного города. Отъезд из Варшавы, поездка на пароходе по Днепру, встреча с украинским рабочим урбанистическим пространством обозначено не столько непосредственными переходами, сколько моментами-контрастами: от пасторально-идиллического восприятия мира писателя/художника к натуралистически-реалистическому, смысл которого у Винниченко состоит в том, чтобы осознавать, как представлена реальность, как она понимается. Таким образом легитимизируется идеологический взгляд политика на бытие и настроение рабочего класса, но со смыслом «как будто», по отношению к «взгляду» Винниченко имеющим философский оттенок фикции как приема, поскольку политическое ведение обретало свою остроту лишь в литературно-живописном аспекте. Среди вербальных зарисовок рабочих лиц выделяется запись: «Робочий клас увесь п'яний, чиновники сидять сібє чистенькі у формочках» (Базікуватий парубок робітник) [3, с. 63]. Это наиболее ощутимо и в прописанных реалиях повседневной жизни рабочих. От них берет начало обусловленная спецификой художественного мышления Винниченко направленность к осмыслению психологии масс, проявлений психологической травмы. Тем и объясняется специфичность взгляда писателя/художника, выхватывающего из толпы натуралистически обезображенные лица - не на фоне задымленного города, а словно пребывающие в «чреве Екатеринослава», всепоглощающей силы (ассоциации с «Чревом Парижа» Золя здесь очевидны): «Над містом висять хмари, подібні до великанських шматків закопті- лого з-під низу олова. Ці груди зложені одна на одну, і страшно стає, що от-от обірвуться й упадуть на ті дрібненькі біленькі хатки передмістя, похожі на малесеньку купку лушпиння від насіння, розкидану в зелені трави» [3, с. 63]. Ключевое слово «страшно» определяет бытие в мире, провоцирующем обособленность существования, выполняющую защитную функцию, а потому стремительно усвоенную автором и не менее стремительно переданную в собственных глубоких переживаниях «города-картины» - «у хмарах диму, який зміястими чорними гущами випливає з димарів» [3, с. 64], среди которого теряет величие даже река - «синя, широка, пощерблена пасму- га Дніпра» [3, с. 64]. Мгновенно обезображенная днепровская идиллия накладывает отпечаток на все мировосприятие, создавая в стиле записей почти физическое ощущение ограничения притока жизненной энергии, подавленности духовной деятельности, создавая предпосылки к душевной травме. Тем самым в тексте дневника создается предчувствие приближающихся событий, которые изменят мир, поскольку дневник вел известный политический деятель, революционер, осведомленный о ситуации не только в России, но и в Европе. Но не обострение революционной ситуации потрясает, а начало войны, переживание которой в тексте дневника реализуется как стремительное обретение травматического опыта на фоне социальноэкономических потрясений, снижающих возможность человеческого сопротивления мировым катаклизмам, феномену исторической травмы.
З. Фрейд в своей работе «По ту сторону принципа удовольствия», уточняя причины возникновения «травматического невроза», особенно отметил: «Ужасная, только недавно пережитая война подала повод к органическому поражению нервной системы вследствие влияния механического воздействия. Картина состояния при травматическом неврозе приближается к истерии по богатству сходных моторных симптомов, но, как правило, превосходит ее сильно выраженными признаками субъективных страданий, близких к ипохондрии и меланхолии, и симптомами широко размытой общей слабости и нарушения психических функций» [19]. Всемирно известный психолог уже тогда указал на то, что «полного понимания как военных неврозов, так и травматических неврозов мирного времени мы еще не достигли. В военных неврозах, с одной стороны, проясняет дело, но вместе с тем и запутывает то, что та же картина болезни возникала и без участия грубого механического повреждения» [19]. Со «времен Фрейда» заметного продвижения в вопросе об освоении военного травматизма не наблюдалось. Лишь в последние десятилетия современное литературоведение, базирующееся на взаимодействии с культурой, историей, философией, психологией плотно обживает травматическую специфику - от истолкования этимологического смысла понятия (от греч. trauma - рана) до осмысления темных мест, на которые указал Фрейд Имеем в виду работы З. Фрейда «Исследования истории», «Психопатология обыденной жизни», «Тотем и табу», «Неудовлетворенность культурой», «Скорбь и меланхолия» и др., сосредоточившись, преимущественно, на понимании «истории как сцены. От интенсивности такого рода процессов зависит и исход драматической встречи человека с историей» [6, с. 18].
Дневниковые записи о событиях начала Первой мировой у Винниченко В связи с тем, что Винниченко довольно часто предпочитал обобщать записи за определенный период, выделяя важные для себя моменты бытия, необходимо уточнить их хронологическое расположение. Все записи между 24.V и 10.VI были сделаны во время переезда из Варшавы в Екатеринослав и частично в первые дни пребывания в городе. Но особенно уточнение касается записей, обозначенных с 22.VII. Г. Костюк предполагает, что она «вероятно ошибочна». По его мнению, «Не може бути 22.VII, бо перед цим була вже нотатка за 23.VII і наступні дні. Не може бути 22.VII ще й тому, що далі маємо нормальне датування: 12.VIII 13.VIII і т. д. Припускаємо, що це механічна помилка Винниченка і що цей запис зробив він між 23.VII і 12.VIII. Правдоподібно, цей запис за 2 серпня 1914 року. Це підтверджує зміст нотатки: перші вибухи патріотичних маніфестацій, загальна мобілізація, перші ешелони мобілізованих, різні сцени прощання. Все це відбувалося тільки після оголошення війни, тобто після 1 серпня 1914 року» [10, с. 123-124]. подчинены осмыслению их как феномена травмы, тому, как они врываются в жизнь, нарушая ее привычный уклад, становясь неотъемлемой частью сознания. Одна из первых записей о войне в дневнике об этом: «Коли життя добре збовтати, вивести з спокійної норми, воно може показати деякі такі явища, які в інший час угадуються теоретично» [3, с. 79], соотносима с современным толкованием причин возникновения травматических состояний в социуме: «Коренится ли травма в реальных травматических событиях или нет, состояние травмы имеет общую характеристику - нарушение нормальности. Вероятно, в природе человека есть что-то тяготеющее к порядку, привычке, повторяемости, продолжительности, стандартизации, предсказуемости, само собой разумеющемуся. Этим удовлетворяется наше стремление к экзистенциальной безопасности. Травма появляется тогда, когда происходит раскол, смещение, дезорганизация в упорядоченном, само собой разумеющемся мире» [20, с. 9-10]. В этом контексте, наверное, смещение в дневниковых записях В. Винниченко было ошибкой далеко не механической, а вызванное обостренностью чувственного созерцания и восприятия событий в городе с началом войны. Скорее, это связано с процессом aufheben, обоснованным Гегелем, нашедшем выражение в дневнике В. Винниченко в том, что город даже за столь короткое время стремительно осваивался им через обострение социально-экономической, революционной ситуации, намечающихся протестов, ожидания социального взрыва. Но на все это напластовывается известие мощного травматического содержания - начало войны. Тем не менее Винниченко-политик не ставит точку на взрывоопасном положении «низов» не только в Екатеринославе, но и в России в целом. На основе собственных наблюдений он прописывает целостность, в которой лидерство социально-экономических проблем как будто снимается, но на фоне войны, в контексте милитаризации сознания сохраняется, обретая более выразительные формы - травматические. При этом сохраняется и стиль подачи нового материала - сочетание выражения общественно значимых событий (авторский комментарий событий, голоса из толпы, разноголосица стихийных митингов, «подслушанные» разговоры и т. п.) и эстетического их оформления (портреты, «выхваченные» из взбудораженной толпы, зарисовки типов, характеров, производящие шокирующий эффект, и пейзажи, не перебивающие травматическое состояние мира, а входящие в него как «со-мир» [по Хайдеггеру]), придавая всему эстетическую выразительность травматического разрыва уклада жизни. В таком «хаосо- мире» хронологическая путаница ведения дневника воспринимается как своеобразный прием, используя который Винниченко как бы уклоняется от воспроизведения того, как он узнал о начале войны, как воспринял это известие, словно изолируя себя от травматического события, нанизывая в записях коллективные примеры исторической травмы.
Первая запись о войне представляет собой как бы продолжение разговора с Другим, а, скорее, размышление о происходящем, но с предыдущей записью не связана, поскольку она - о другой жизни, «до войны» - «каруселі», «палатки з цукерками, рибою, ковбасою, паляницями», «дзвінки театрів...» [3, с. 70-71]. Винниченко не столько резко обозначает разрыв с мирной линией жизни, в особенности с днепровской идиллией, сколько сталкивает два образа мира, один из которых стал довоенной историей, а другой - динамично обретал черты военной жизни. Такое столкновение становится устойчивым дневниковым приемом В. Винниченко, использованным изначально в анализе и обобщении того, что писали газеты о войне, а именно: «Підтверджують своїм поводженням неможливість заповіді “Не бреши”. У них друга заповідь: “Роби все, що ти сам уважаєш за краще, аби було добре тим, кому ти робиш”. І вони вважають, що краще - це ховати правду, або переробляти її так, щоб ніхто не впізнав її. Вони з неї роблять те, що, на їх думку, може дати добро країні в цей момент, себто підняти дух її , запалити ентузіазмом, зміцнити сили й напружити їх до потрібного ступеня. І це робиться з першого ж дня оповіщення мобілізації» [3, с. 71]. Винниченко-политик часто будет прибегать к комментированию публикаций в прессе, но более всего, как писатель и художник, ощущает необходимость осмыслить состояние общества, чувства частного человека, формируемого у него опыта от воздействия травмы войны. Это важно потому, что «чувства несут на себе особую печать интимности по сравнению с тем, что можно назвать публицистичностью мысли» (по Коллингвуду) [8,
с. 149], к тому же, по мнению английского философа и теоретика искусства, современника писателя/художника Винниченко, «мысли могут противоречить друг другу или подтверждать друг друга, в то время как ощущениям это не дано... Никто не может объявить о согласии или несогласии с моими ощущениями» [8, с. 150]. Но пока это дискурсивный шок, тогда как война была тем травматическим историческим событием, описание которого возможно через познание,
т. е. как чувственное осознание выпавших на человеческие судьбы испытаний. Тем вызвана его полная решимости запись: «У цей день я поїхав у город» (вероятно, сделанная 2 августа 1914 г. - В. Н.) [3, с. 71]. Его «пучок оптики», направленный на город, охваченный паникой, подчеркнуто непроизвольный. Это взгляд Другого, но в этот миг неотделим от Я самого, что придает особенную достоверность увиденному/описанному, поскольку «втягивает» Я как Другого в процесс психологической репрезентации событий через настроение толпы: «Я помітив купки людей, які тривожно говорили про щось»; «скрізь стояли люди й гомоніли між собою» [3, с. 71]. По мере приближения к центру города «купки були частіші, нервовіші»; «екіпажі чомусь їздили швидко, з грохотом, неначе тікаючи звідкись» [3, с. 72]. Несмотря на то, что Винниченко как будто четко обозначает свое передвижение от предместья или окраины (где, вероятно, проживал, скрываясь от преследований полиции) к улицам города, к центру, отбросив всякие опасения, его путь подчинен закономерностям причинной достоверности процессов, «волнам вероятности». При всей реальности передвижения просматривается его иная смысловая нагрузка - глубинного, «внутреннего типа движения» (по В. Топорову). В ситуации, описанной В. Винниченко о себе, он как «агент движения» хотя и очевиден, но как бы вытеснен в маргиналии. При таком позиционировании время и пространство предстает иным в сравнении с «механическим» внешним движением; это «''движение без движения”, поскольку представлено в тексте экспрессионистически изломанным и запутанным, даже разорванным, тем не менее прочно связано с целью, поэтому продвижение по городу у В. Винниченко обладает способностью «институироваться в определенные образы и понятия» [17, с. 12] экспрессионистического характера, не заимствованного, но именно им формируемого. В. Винниченко наслаивает свои впечатления, мастерски балансируя на грани описания/изображения, демонстрируя погружение города в водоворот всеобщей паники, вызванной удвоенной травматичностью, - дьявольским сочетанием событий начала войны и черносотенного разгула. Именно в этот момент бытия пришло понимание того, что ни строго научный, ни публицистический подходы не раскроют всю реальность происходящего, в особенности, глубину травмы войны. Поэтому Винниченко предпочитает демонстрировать картины жизни города и через «литературоподобие», и с помощью экфрасисности: «На вулиці раптом знялася, як буря, паніка. Всі кудись бігли з круглими очима, з роззявленими ротами, обганяючи одне одного, хапаючись за плечі, за руки, як утопаючі, і щось кричали. По бруку летіли звощики, широко з жахом розмахуючи батогами й перехилившись усім тулубом до коней» [3, с. 72], что соотносимо и с другим текстом: «Плач, рыдания, вопли обезумевших людей разносятся по улицам» - описанием М. Кольцовым погибающей испанской Герники [9], и со знаменитой картиной Пабло Пикассо «Герника», засвидетельствовавшей «распад материального мира» [4, с. 222]. Но есть одно, объединяющее три взгляда - понятие «философии войны» с торжеством хаоса, изначально экфрастично запечатлено В. Винниченко, словно подтверждая и развивая слова Н. Бердяева о том, что «нужны великие потрясения, катастрофа, личная и мировая, чтобы пробудить все силы человека» [2, с. 81], развернулось в образе Герники М. Кольцова и П. Пикассо.
Дневниковый текст Винниченко примечателен тем, что формирует новый художественный синтез слова и телесности, естественно пересекающихся в осмыслении феномена травмы. Упор на эмоционально-аффектную мощь слова, но не литературного, а обыденного, заимствованного из «подслушанной» писателем разговорной речи, уплотняется в тексте смыслами «изуродованных слов» (по В. Шкловскому) под действием травмы толпы, переходящей в панику, искажающую лица: «...індивід з товстою, якоюсь погнутою як залізо пикою, з здоровенним ротом, в якомусь драному картузі, босий і брудний надзвичайно... Він одповів мені. коротко, злісно і рішуче. Убили чотирьох запасних, сукини сини! Арештантюги!» [3, с. 71]. Но большую выразительность в воспроизведении происходящего придает акцент на телесности как языке описания реальности с привнесенностью состояния аффекта. Толпа в панике утрачивает ощущение пространства, убегая неизвестно от кого и в никуда: «.. .хвилювання було зовсім безпричинне: нічого ніде не сталося такого, що треба було тікати. Мабуть десь хтось голосно крикнув, або побіг чого-небудь, і тривожний, нервовий, насичений уже зарані панікою настрій всіх, хто чув той крик, вибухнув моментально, передаючись як електрика, від одного до одного. І який повинен був бути той настрій, щоб погнати без усякої причини цілу юрбу народу по вулицях» [3, с. 73]. У бегущих не различается «внутреннее» и «внешнее», нет признаков чувственности и, следовательно, утрачивается связь с миром. Состояние аффекта, страха, шока, паники от еще не до конца осознанной травмы, искажает лица, размывает очертания человеческой целостности, воссоздавая лишь телесные формообразования - плечи, руки, глаза, рты - бесплотные, лишенные качеств, интерпретирующих человеческую натуру. И все же, происходящее в тексте Винниченко поддается определению в контексте современных истолкований феномена травмы, а именно: «Травма - это не просто патология, но способ или попытка выражения истины» [7, с. 561]. Ее постижение в качестве коллективного опыта стремительное, ограниченное событиями одного, второго дня Первой мировой. Винниченко представил его вертикальный срез: от зарисовок волнений, фиксирующих первые сегменты травматического опыта, до воссоздания шока, аффекта, паники толпы как коллективных эмоциональных состояний. Обозначено и пространство - урбанистическое, - в котором травма войны воспринимается как совместно переживаемая. Я как Другой невольно захвачен этим ритмом города, который продуцирует необходимость динамично постичь смысл событий, иметь о них правильное понятие. Для этого необходимо было «остановить» время событий, чтобы пережить их как прошедшее, как «историческое время». В связи с этим возникает хронологическая загадка относительно записей. Если стиль записей о событиях дня предположительно 2 августа свидетельствует, что они сделаны в тот же день, то записи о вечерних событиях, вероятно, были сделаны в последующие дни и представлены как глубоко пережитые и воспринятые Я/ Другим как травма, которая структурирует все последующие записи: «І весь той день аж до вечора настрій той не зникав. Скрізь збирались купки народу й неголосно, з таємничо-тривожними виразами говорили про вбивство, бунт, мобілізацію, війну. І скрізь на ці купки налітали околодочні та поліцаї, теж нервові, напружені й насичені від штиблетів до своїх формених картузів тою самою панікою, тільки з другого полюса. І очі їх були витріщені, повної напруженої рішучості й готовності битися до кінця» [3, с. 73] (выделено нами - В. Н.). Незначительная по объему, но весомая по смыслу запись о втором дне войны имеет важное значение в дневнике, поскольку в ней Винниченко выстроил по возрастающей причины «исторической травмы». В последующих записях черносотенные погромы, бунты вытеснены из текста авторским переживанием коллективной исторической травмы, запечатленной в сценах мобилизации в Екатериносла- ве. Тому предшествует запись Винниченко-политика: «...була знов маніфестація і молебень. Молилися за те, щоб Бог поміг добре вбивати. І знов заповідь “Не убий” одсувається перед тим, що вважається більш потрібним у даний момент. А хай хтось спробує возста- ти проти святості й абсолютності цієї заповіді, - на нього накинуться, як на злочинця» [3, с. 74]. Это далеко не обычная дневниковая запись. Это - иронический пассаж, рассчитанный на интеллигентного читателя. В нем сопряжены смыслы сократовской иронии, выразившейся в позиции Я «как будто» непонимания того, что искажается смысл христианской заповеди и кьеркегоровской экзистенциальной, из которой следует потребность и необходимость мыслить, основываясь на подлинном существовании, жить согласно абсолюту, следовательно, быть преданным христианской истине. При этом Кьеркегор указывал на то, что такая позиция всегда приводит к мученической смерти [11]. Вероятно, студируя мысль философа, Винниченко преломляет ее к событиям начала войны, выводя один из важнейших сегментов этического содержания исторической травмы, - попрание христианских заповедей. Отчаянные попытки тому сопротивляться свидетельствуют о том, как травма становится новым опытом жизни.
Следующая за этими философскими размышлениями запись развивает высказанное, но начало ее провокативно публицистическое, изменяющее ракурс видения событий - через оптику натурализма. Это тщательно документированное, детальное описание событий - «молебні й маніфестації. з флагами и портретом царя.», «єврейського общества» [3, с. 74], еще одной толпы, травматическое состояние которой выразилось уже не в панике, но все-таки истерическом желании показать свой патриотизм: «Жалько, тяжко і боляче було дивитись на нервову, запальну старанність, з якою одні люди виявляли свій патріотизм» [3, с. 74]. Особенную значимость в описании обретают элементы натуралистической поэтики - пространственновременной герметизм в сочетании с физиологизмом: «Я бачив їх аж увечері; вони нізащо не хотіли розійтися і випустити з рук дорогих флагів; вони всі похрипли; їх крик “ура” був похожий на крик чоловіка, якого душать за горло і який у цей час кричить: “Караул!” Вони обійшли всі церкви й вулиці, вони всьому городові показали вже, які з них патріоти; вони не присіли ні на годину і на лицях їхніх зашкарубла змішана з потом пилюка. Але вони все ж таки бігли по найвидні- ших місцях, кричали “Геть Австрію і Германію!” І хитались, як ранені, під вагою дорогих флагів» [3, с. 74].
Следующая за «патриотической» с подтекстом травмы как животного крика екатеринославская запись не датирована, что можно рассматривать как прием создания травмированного мира, подчиненного не столько хронологическому воспроизведению как таковому, сколько этапам травмирования общества: от отдельных его сегментов, функционирующих на уровне коллективного бессознательного, до тотального охвата сознания, чувств, меняющих нормы и модели человеческого поведения. Этот момент обозначен в тексте дневника весьма своеобразно: «Я іду далі. Але скрізь такі самі групи, скрізь те саме. Я ніде не бачу ні одного натхненного, піднятого високим чуттям одваги й патріотизму обличчя. Найбільше це байдужі, стомлені лиця» [3, с. 77]. Запись имеет как реальную основу - очередной приезд в город, - так и символический смысл - завершение патриотически- травматического взрыва сознания. Аффект, шок уступают место подавленности, усталости, безразличию, безнадежному отчаянию, боли и муке как формам проявления травматического состояния. Чтобы ощутить и пережить такой объем травматичности в одночасье и вместе с тем увидеть различие между травмированными субъектами, автору необходимо было увидеть эпицентр травмы, т. е. вокзал, с которого отправлялись составы с мобилизованными, в их телесной нерас- члененности с родными - женами, детьми, их провожающими. Для этого Винниченко активизирует новый ракурс ведения художника, в том числе и портретиста начала ХХ века с приоритетностью «воображаемых переживаний», маркирующих «всецелую или единую деятельность» [8, с. 141], т. е. и массы, и творческой личности, что характерно для экфрастического описания восприятия событий на вокзале на основе эстетического воображения/переживания В. Винниченко. Его присутствие на вокзале, пристальный взгляд отмечает: «Все обліплено людьми; на двох мостах через залізничні путі кишать тісно зліплені тіла, як якась темносіра маса. Вітер сильно тріпає хустки, шарфи й подоли спідниць. Публіку на перон не пускають і щільно забивають всякі проходи, але вона, як вода, просочується, хто його знає звідки і бурлить на пероні» [3, с. 74-75] (выделено нами - В. Н.). По сути, это «воображаемая картина», созданная на основе импрессионистической эстетики - «видеть, чувствовать, выражать». В ней нет явных примет войны. Автор ограничивает в ней (картине) свое присутствие - не комментирует и не анализирует, он только делится своими впечатлениями, не обозначая себя. Тем не менее представленная картина контрастна, поскольку в ней есть мотив ветра как элемент композиции, характеризующий своеобразие ее движения, как бы задающий ее ритм и претендующий быть «руководящим мотивом». Но в контексте всей «воображаемой картины» «вокзальной» записи в целом ему отведена роль лишь вводного мотива со значением второстепенности, словно подтверждающей закономерность не только эстетики импрессионизма как двуединства («единство внешнего и внутреннего, объективного и субъективного»), в котором «субъективное занимает позиции предпочтительные - отсюда и сам принцип “впечатления”». Но не менее значимым является закономерность прорыва его (импрессионизма) в синтез художественно-эстетических поисков писателя/художника. Есть убедительное доказательство, подтверждающее то, что «впечатление всегда направлено, всегда исходит от чего-то, извне». А поскольку «точной дозировки составных частей двуединства нет...», то «равновесие может быть нарушено» [1, с. 67]. При всей реальности происходящего наслоение травматических и культурно-исторических страт настолько плотное, что не поддается обыденному осмыслению, что его предпочтительнее было обозначить и осмыслить художественно зашифрованным, следовательно, более узнаваемой действительности (по К. Ясперсу). Только в «воображаемой картине» вокзала Винниченко раскрываются одномоментно причины и следствия травмы войны. Impressionne нарушается естественным вторжением в него натуралистической поэтики, как бы изменяющей витальный ритм, заданный порывом-мотивом ветра, созданием портретных зарисовок «физиологического» человека, который под давлением травмы войны оборвал свое бытие в статусе человеческой личности. Доминирующий физиологизм вытолкнул его за пределы социальной сферы в биосферу, которая, как известно, управляет толпой (но уже не народом!). Увиденные вокзальные сцены, их воссоздание в записях/зарисовках предполагали необходимость формирования особенного топоэкфрасисного синтеза на основе эстетики импрессионизма и натурализма, что в записях/«картинных зарисовках» Винниченко обрело черты «импрессионистического натурализма» (отчетливо проявившего себя в австро-немецкой литературе этого периода). С этих позиций Винниченко создает вербально-визуальную многофигурную композицию с сюжетом «Екатеринослав и война», дифференцируя екатеринославский мир от силы травмированности: «По пероні бігають кондуктори, залізно дорожня адміністрація, перескакують через рельси запасні і дряпаються у свої вагони; гудки, свистки, безперестанний шаркіт ніг на пероні, часом вибух гіркого плачу» [3, с. 75]. Пространство вокзала, казалось бы, плотное, непроницаемое, но «публіка» «просочується» «як вода», а отсюда восприятие его (вокзала) как феномена «все - жизнь», по Шелеру - универсальной жизненной движущей силы, сохраненной даже травмированным сознанием инстинктивно, в хрупкой форме, к тому же, зыбко балансирующей с акцентами на биологичности существования и мобилизованных на фронт, и покинутых семей. Пока это «публика», еще не толпа, в которой выделяются лица с разными проявлениями травмы, прежде всего подавленности. Сужение мира до пространства перрона подавляет малейшие признаки проявления состояния «все - жизнь», активизируя биологические функции в зарисовке этапной роты: «Вона навіть не одягнена в солдатську одіж і через те враження від набитих у клітку людей ще тяжче. Обличчя серйозні і майже не видно посмішок» [3, с. 75]. Одним из наиболее примечательных аспектов воссоздания вокзального хаоса является то, что писатель/ живописец видит в нем лица, создавая портреты с психологическим изображением, интерпретируемых сквозь призму и своих переживаний, лиц с печатью травмы: «У дверях вагона стоїть бородатий, рум'яний, череватий чоловік у хороших чоботях... Борода гарно розчесана, широке лице свіже, одгодоване, очі закриті товстими щоками - це, мабуть, якийсь підрядчик або трактирщик. Він чогось дуже червоний. Невеличкі очі його неодривно дивляться на перон., на групу жінок, ... він навіть здається байдужим до всього. Але от поїзд рушає. Закрившись рукою, він плаче» [3, с. 75]. Привлекает внимание и «молодий парубок. Він голови не схиляє, тільки одвертається од перону і дуже притуляє одну руку до очей» [3, с. 75], портрет «помічника начальника станції» - «худорлявий, високий чиновник з гострою борідкою», по велению злых сил вынужден был покинуть свой уютный кабинет, который как бы В представленном анализе дневникового текста «как бы» употребляется не с обыденным смыслом, а как философское понятие, предполагающее значение фикции. ограждал от возможных травм войны. Нет упоминания и о его мундире, свидетельствующем о социальной принадлежности, всегда защищавшем гоголевских и чеховских чиновников. Его портретная характеристика изначально воспринимается как бы случайно, как и многие из предыдущих «портретов» героев, выхваченных взглядом из вокзальной толпы, остается приметами прошлой жизни, довоенной. Казалось бы, именно эта грань разъединяет социум - одни едут на войну, другие - сохраняют свой прежний статус. Но общее переживание травмы не только нивелирует размежевание, но придает особенную остроту травматическим ощущениям: «Він стоїть непорушно і дивиться в одну точку перед собою, ніби його тут поставили для розстрілу і він понуро, весь завмерши, жде кінця» [3, с. 75]. Такое проявление оголенности травмы притягивает взгляд писателя/художника, визуализируя/вербали- зируя образ ощущения боли, но не физической, а как общего социального аффекта, той, которая, по справедливому замечанию Е. Петровской, «не подлежит символизации. Все, что она способна оставить, - это трудноразличимый косвенный след в текстах- свидетельствах, присутствие которого можно ощутить, но невозможно удостоверить. Боль - последний антропологический рубеж человеческого» [14].
В плотности хаоса вокзального мира Автор дневника находит для себя место: «Я спираюсь об залізний стовп і стою». В незначительной по объему фразе, в изображении Я как Другого выразимо ощутима отрешенность от живописно-портретного изображения с очевидным переходом к скульптурному: словно бы только что это была объемная масса, превращенная в оформленный материал, отсылающая к античности, когда изваяние имело опору из дерева, тем самым подчеркивая природность его происхождения. Скульптурное состояние Я/Другого индивидуализируется личностью художника, тонко чувствующего стиль эпохи military. Отсюда дантовское и вместе с тем экспрессионистически-экфрасисное наслоение «железных» образов, мотивов - столб, рельсы, поезд, воспринимающихся, как и весь перрон, словно врата в ад. В этом контексте историческая травма обретает физиологические формы: «Повз мене хисткою ходою ідуть жін- ки, дівчата і діти. У всіх повіки червоні, як вивернуті, і чогось переважно закривають хустками роти, мабуть, для того, щоб сховати гримасу одчаю й муки, та все ж таки дивитись у слід червоній тупій стіні останнього вагона, що помалу котиться від станції кудись» [3, с.75]. Ключевыми словами, определяющими для этого «момента жизни» является не только «гримаса одчаю й муки», но и вагон как «червона тупа стіна», разделяющая травмированный мир на тех, кто отправляется на верную смерть и остающихся с болью и страданием. Воплощение страстей, убивающих душу и тело от полученной травмы войны, впечатляет силой экфрастического взгляда, живописующие смыслы которого решены на основе сегментов экспрессионистической эстетики, сочетающихся с натурализмом. На такой синтез указывал В. Топоров, отмечая то, что натурализм, как и другие течения, «вобрал в себя экспрессионизм..., создав новый тип художественного мышления» (господствующий с 1911 по 1921 г.), мастера искусств которого «в целом» (а не только поэты) «предугадывали, свидетельствовали и оплакивали время ломки, сдвига, взрыва, время роковых, кровавых и необратимых перемен» [18, с. 6-7], т. е. качества, которые, по сути, олицетворяли и историческую травму как следствие Первой мировой. В. Винниченко впитывал новые тенденции, адекватные его умонастроениям и эстетическим воззрениям. В дневниковой записи ситуация на перроне прописана с экспрессионистической позиции - деформированного восприятия мира, где «вагон» воспринимается как «стена» - символ хаоса и войны, травмирующая разум и душу, а ее безумие обозначено агрессивной насыщенностью красного цвета вагона-стены и того же красного цвета женских век («повіки червоні»), но с натуралистической наполненностью, поскольку у него иная смысловая нагрузка - выражение душевной травмы. Поэтому в тексте В. Винниченко они контрастируют.
Эстетическая организация сцены прощания на вокзале подчинена идее раскрытия предельной грани травматичности. Некоторая пассивность импрессионистического «впечатления» в записи Винниченко не столько вытесняется, сколько противопоставляется мощи экспрессионистического чувствования, активизированности взгляда, обнажающего глубины травмы, поскольку «ни один “изм” ХХ в. не был так тесно переплетен с личными и общественными конфликтами своего времени, как экспрессионизм, ни один из них не пытался углубиться в самую суть противоречий, с тем чтобы их преодолеть» [15, с. 24]. Апогей травматического состояния не только описан, живописно изображен, но в большей степени «озвучен»: «На пероні спо- чатку тихо чується виття, далі воно стає дужчим, голоснішим і переривається зойком. Це ніби знак для всіх жінок; вони, немов обнявшись плачем, зливаються в один хор ридання і зойків» [3, с. 75]; «.. .тут не личить виявляти свого горя; воно виривається саме, не слухаючись не криків “ура”, ні геройства, яке повинно в такий мент у громадян. Тут виють і плачуть так щиро, як щиро плачуть і виють звірі» [3, с. 76]. Пределом человеческого выражения травмы мира есть «вой», изначально тихий, переходящий в плач, рыдания и в конечном итоге - звериный вой (выделено нами - В.Н.). В мастерски «озвученной» вербальной картине В. Винниченко очевидна соотнесенность с известной картиной Эдварда Мунка «Крик» (1893) с изображением фигуры мужчины с блуждающим взглядом, сжимающего голову руками, из открытого рта которого вырывается крик. Он воображаемый, поэтому обозначен концентрическими кругами, заполняющими мир, озаренный языками пламени. Безусловно, «крик Мунка», которому, по определению самого художника, «нет конца», во многом предвосхитил экспрессионистические поиски Винниченко, реализованные в августе 1914 г. в создании воображаемой единой сюжетной линии - от образа крика, страха и отчаяния горожан до образного воплощения уже не человеческого, а зооморфного воя, не только олицетворяющего, но и озвучивающего силу коллективной травмы войны в образе толпы, представленной «обнявшейся плачем».
...Подобные документы
Общечеловеческое, философско-этическое и художественное значение художественной литературы времен Первой мировой войны. Роль литературы в изучении истории. Первая мировая война в творчестве А. Барбюса, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя и Р. Олдингтона.
курсовая работа [92,5 K], добавлен 08.01.2014Описания детства, юности, учебы в литературном университете. Начало творческой деятельности и первые стихотворения. Формирование основных жизненных принципов поэта. Тема войны в творчестве К. Симонова. Общественная деятельность после Второй мировой войны.
презентация [2,0 M], добавлен 21.11.2013Тема Великой Отечественной войны в произведениях советских писателей и поэтов. Повесть М.А. Шолохова "Судьба человека". Емкая и глубокая концентрация в произведении опыта войны. Невосполнимая утрата героя повести, переплетение трагического и героического.
реферат [21,3 K], добавлен 15.02.2012"Тихий Дон" М. Шолохова – крупнейший эпический роман XX века. Последовательный историзм эпопеи. Широкая картина жизни донского казачества накануне первой мировой войны. Боевые действия на фронтах войны 1914 года. Использование народных песен в романе.
реферат [24,1 K], добавлен 26.10.2009Тема судьбы народа в годы революции и гражданской войны. Отличие изображения войны М. А. Шолоховым от других авторов. Средства, с помощью которых М. А. Шолохов написал свой великий роман – эпопею "Тихий Дон". Проблема войны, ее влияние на судьбы людей.
реферат [82,7 K], добавлен 28.11.2008Сутність і значення проблеми суспільного обов’язку, яку Винниченко розглядав з позиції співвідношення індивідуального і загального. Низка типових представників, для яких ця проблема набуває гостроти на прикладі творів "Дисгармонія", "Великий Молох".
статья [24,3 K], добавлен 18.02.2014Детство и отрочество Николая Степановича Гумилева, формирование его литературных вкусов. Анализ стихотворения "Капитан". Служба в уланском полку во время Первой мировой войны. Приговор Петроградской Чрезвычайной комиссии и приведение его в исполнение.
презентация [2,7 M], добавлен 12.01.2011Особенности освещения темы русско-чеченской войны в произведениях жителя Чечни, писателя Германа Садулаева. Анализ повести "Одна ласточка еще не делает весны", в которой автор пишет не только о войне, но и об истории, традициях, мифологии своего народа.
реферат [25,1 K], добавлен 11.05.2010Детство и юность Н.С. Гумилева. Его первые стихи. Покровительство Брюсова молодому поэту. Экспедиции в Африку. Участие в боевых действиях во время Первой мировой войны. Литературная деятельность. Религиозные и политические взгляды. Арест и расстрел.
презентация [94,0 K], добавлен 28.09.2015Список произведений писателя В. Суворова, посвященные событиям Второй мировой войны. Тема романа "Контроль" и его достоинства. Произведения "заволжского цикла" А.Н. Толстого, принесшие ему известность. Сюжетные линии романа "Хождение по мукам".
презентация [903,4 K], добавлен 28.02.2014Тема супружеской войны в европейской литературе Средневековья и Ренессанса: от фарсов и фаблио – к комедии. Место анализируемого мотива в пьесах У. Шекспира и Р.Б. Шеридана. Сравнительный анализ мужских и женских образов в рассматриваемых пьесах.
курсовая работа [36,6 K], добавлен 03.06.2015Роман-эпопея М.А. Шолохова "Тихий Дон" – это эпическое произве-дение о судьбе российского казачества в годы первой мировой и гражданской войн. Реализм "Тихого Дона". Отражение гражданской войны в романе.
реферат [15,0 K], добавлен 31.08.2007Он сам жил той казачьей жизнью, которую описывает в "Тихом Доне". В романе он не просто показывает события гражданской революции и мировой войны, но и говорит об их влиянии на мирный уклад жизни казаков, их семьи, их судьбы.
сочинение [21,9 K], добавлен 20.01.2003Детские годы и обучение в Лондонском университете. Выход первого романа Честертона "Наполеон Ноттингхильский". Сотрудничество с популярными газетами. Цикл новелл об отце Брауне. Изменения в жизни Гилберта Честертона с началом Первой мировой войны.
реферат [22,7 K], добавлен 04.02.2013Біографічні відомості Володимира Винниченка в загальному історичному процесі. Політичні питання у драмах письменника. Співпраця літератора з видавництвами "Знание" та "Рух". Значення публіцистики В. Винниченка для подальшого розвитку журналістики.
курсовая работа [68,1 K], добавлен 03.06.2014Футбол в воспоминаниях, дневниках и произведениях советских писателей первой половины XX века. Образы футболистов и болельщиков. Отношение к футболу в рамках проблемы воспитания и ее решение в повестях Н. Огнева, Н. Носова Л. Кассиля, А. Козачинского.
дипломная работа [248,9 K], добавлен 01.12.2017Сопоставление представлений Уэллса о будущей войне с представлениями других мыслителей. Анализ характера, особенностей, технических средств, тактики и стратегии будущей войны, выражаемых Уэллсом как писателем и представителем специфического социализма.
курсовая работа [83,3 K], добавлен 17.01.2011Життя та творчість В. Винниченка. Спогади про власне дитинство відбилися на сторінках прозових творів. У 1900 році - студент Київського університету. Арешт за участь в Революційній Українській партії. Військова служба. Заступник Голови Центральної Ради.
реферат [26,2 K], добавлен 11.01.2009Писатели о Великой войне. Трагическая судьба народа во Второй мировой войне. Юрий Бондарев и его произведения о войне. О человеке на войне, о его мужестве повествуют произведения Виктора Астафьева. Тема трагедии войны не исчерпаема в литературе.
сочинение [13,7 K], добавлен 13.10.2008Американская художественная литература о женщинах в период Гражданской войны в США. Повседневная жизнь солдат и мирного населения в условиях Гражданской войны в США в отражении художественной литературы. Медицина эпохи Гражданской войны в Америке.
дипломная работа [231,7 K], добавлен 10.07.2017