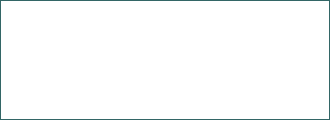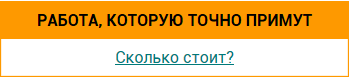А.С. Пушкин и пушкинский миф в русской поэзии периода "оттепели"
По материалам ведущих литературных изданий за период с 1956 по 1968 год (альманах "День поэзии", журналы "Новый мир", "Юность", "Знамя", "Нева") определение степени присутствия А.С. Пушкина в актуальных дискуссиях, стихах и научных исследованиях.
| Рубрика | Литература |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 02.09.2018 |
| Размер файла | 88,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
В раскате грозного похода
Сказались, гордость в нас будя,
И гений нашего народа,
И гений нашего вождя .
К началу 60-х военная тема переживала второй взлет, что не без удивления отмечали современные журналисты: «Тема войны приобрела в последнее время на экране, да и в литературе, такую всеобщность, какой она не знала, кажется, со времен самой войны» . В этом нетрудно убедиться, открыв любой из влиятельных литературных журналов или поэтических альманахов. Однако интонация разговора о войне существенно изменилась: на смену громогласному гимну пришла беседа вполголоса. «Новизна ее [новой стиховой риторики. - Ю.К.] была в личном, не коллективном происхождении, в том, что она укрупняла фигуру автора-поэта, высказывающегося если еще не о себе, то уже от себя», ? подытоживает современный исследователь [курсив М.О. Чудаковой. - Ю.К.]. Когда война перешла в разряд личного драматичного переживания, в разговор о ней проник Пушкин - как поэт, то есть человек с особым, обостренным восприятием, но чаще - как нуждающаяся в охране культурная ценность. Тем не менее, нельзя назвать эту идею изобретением поэзии 60-х. Еще в 1924 году Эдуард Багрицкий писал в стихотворении «О Пушкине»: «Я мстил за Пушкина под Перекопом, / Я Пушкина через Урал пронес, / Я с Пушкиным шатался по окопам, / Покрытый вшами, голоден и бос. / И сердце колотилось безотчетно, / И вольный пламень в сердце закипал / И в свисте пуль за песней пулеметной / Я вдохновенно Пушкина читал!». Но в этом тексте Гражданская война приобретала высокое предназначение - отомстить за Пушкина, убитого по всем канонам цветаевской мифологии, наполняющей аллюзивный план стихотворения Багрицкого: «...Наемника безжалостную руку / Наводит на поэта Николай! / Он здесь, жандарм!». Героическое предприятие героя Багрицкого венчается успехом: «...Цветет весна - и Пушкин отомщенный / Все так же сладостно-вольнолюбив». Очевидно, без влияния Багрицкого не обошлось стихотворение поэта-фронтовика М. Дудина «Под Пушкином был выброшен десант» (1949): «Под Пушкином был выброшен десант. / По немцам, разбежавшимся по лесу, / Мой друг - поэт и гвардии сержант / Из пулемета бил, как по Дантесу» .
Поэты 60-х, напротив, осознают, что в хаосе Второй мировой войны они рисковали остаться без Пушкина. Нивелируя наделенный высшим смыслом, героический ореол войны, Кайсын Кулиев в стихотворении «Ночь и рассвет» делает войну сюжетом кошмарных снов обычного, частного человека.
Днем вижу платаны и слышу веселый
Плеск речки. И вновь мои мысли ясны.
Днем вижу я зданья, где жить новоселам,
А ночью мне снятся кровавые сны.
А ночью -- война, мое мертвое тело,
И мать в черной шали рыдает по мне
В ауле. Я ж, холм обхватив обгорелый,
Лежу. Не вернусь я -- погиб на войне .
В том же 1964 году появилось стихотворение Булата Окуджавы «Вот я, убитый, падаю у бережка…» , где именно смерть лирического субъекта как будто бы делает победу возможной. Не нов здесь обезоруживающий эффект высказывания от первого лица, его еще в 1946 году использовал будущий главный редактор «Нового мира» А.Т. Твардовский («Я убит подо Ржевом…»), который спустя несколько лет, в 1949-м, напишет об особенной ценности Пушкина в военное время: «…Только в дни Отечественной войны, в дни острой, незабываемой боли за родную землю <…> я, как, должно быть, и многие другие люди моего поколения, увидел, что до сих пор еще не знал Пушкина. И для меня как будто впервые <…> прозвучали строфы его исполненной горделивого достоинства патриотической лирики» . Однако в «оттепельном» тексте Кулиева значимость обретает отнюдь не убедительная идеологическая сила пушкинской поэзии: Пушкин созидающий противостоит разрушительной войне.
Поэт, ты тревожней душой, чем другие.
О Пушкин! Твой стих так просторен, богат.
Мне нравятся неба тона голубые,
Неужто их в черную пыль превратят!
К тому же призывает Вера Звягинцева в более декларативном стихотворении «Обещайте мне…», напечатанном в 1966 году в альманахе «День поэзии»:
Обещайте мне, что люди вечно
Будут помнить Пушкина и Блока,
Что высокий дух и жар сердечный
Не исчезнут в пропасти глубокой.
<…>
Обещайте мне, что сгинут войны,
Будут мирными поля и реки,--
И тогда доверчиво, спокойно
Я смогу закрыть глаза навеки .
Жестокости войны не только перестали оправдывать устами поэтов. Более того: войну стало можно обвинить, что и сделал Окуджава в 1958 году со свойственном ему почти простодушным лиризмом: «Ах, война, что ж ты сделала, подлая!» Первостепенная вина войны ? в бесцеремонном, насильственном отлучении от культуры, как показывает Олег Дмитриев в стихотворении «Очередь 1946 года», вышедшем в том же 1966 году в «Юности»:
Очередь за сахаром, за мылом,
За пшеном, за серою мукой…
А по лицам, бледным и унылым,
Тихий разливается покой.
Постепенно двигаемся с нею -
Видно, нескончаема она,
Темная, усталая - длиннее,
Чем четырехлетняя война.
<…>
Но порой гнетет меня обида,
К горлу поднимается комок -
Пушкина, Тургенева, Майн Рида
Я читать бы в это время мог…
Поэты 60-х воюют против войны, «как безличной, противоестественной, бездуховной стихии» , за Пушкина, аккумулирующего русскую культуру.
Освобождением от идеологических пут военная тема была во многом обязана провозглашенной борьбе с «культом личности». Больше нельзя было объявить победителем Сталина и его брата-близнеца - народ.
Однако на смену этой вырастала другая мифология: «Война народная переродилась в войну священную, в дело не только государственной или исторической важности, но и в событие мифологическое, вроде борьбы богов с гигантами».
Во власти «священной войны» было наделить воина поэтическим даром. «Крещение» боем стало для лирического «я» Евгения Винокурова альтернативой кровавой операции, проведенной шестикрылым серафимом в «Пророке» Пушкина:
Мне грозный ангел лиры не вручал,
рукоположен не был я в пророки,
я робок был, и из других начал
моей подспудной музыки истоки.
Больной лежал я в поле на войне
под тяжестью сугробного покрова.
Рыдание, пришедшее ко мне -
вот первый повод к появленью слова .
Построенное на прямом и последовательном отрицании хрестоматийного претекста («Мне грозный ангел лиры не вручал, / рукоположен не был я в пророки», «И не внимал я голосу творца»), стихотворение Винокурова утверждает более приемлемый для атеистской советской парадигмы миф: «И был тогда, признаюсь, ни при чём, / когда больной дышал я еле-еле, / тот страшный ангел с огненным мечом, / десницей указующий на цели». Общность лирической ситуации («Как труп, в пустыне я лежал» и «Больной лежал я в поле на войне») и ее исхода (обретение поэтического дара) нарушается разностью причины преображения: поэт у Винокурова обретает голос в момент наивысшей слабости. В противоположность тяжеловесной и архаичной даже для Пушкина образности («Перстами, легкими, как сон, Моих зениц коснулся он», «Восстань, пророк, и виждь и внемли»), Винокуров делает своего героя образчиком слабости и малокровия: он - «робок», «больной», «дышит еле-еле», его оставляет сила, а слово он обретает благодаря рыданию и «беззащитному крику жалобы». Весь поэтический миф Винокурова строится на отталкивании от Пушкина: современный поэт больше не верит не только в способность «глаголом жечь сердца людей», но и в возможность воздвигнуть «нерукотворный памятник», что видно в опубликованном в «Юности» в 1963 году тексте «Моими глазами»:
Я весь умру. Всерьёз и бесповоротно.
Я умру действительно.
Я не перейду в травы, в цветы,
В жучков. От меня ничего
Не останется .
Винокуров пишет свой «антипамятник» демонстративным верлибром, щедро начиняя текст прозаизмами: «я умру действительно», «зачем обольщаться?». В своей версии этой, пожалуй, самой богатой с точки зрения традиции поэтической декларации Винокуров полемизирует не только с Пушкиным, но и с Николаем Заболоцким, уповавшим на переселение душ в своей версии «Памятника»:
Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу
Корнями обовьет, печален и суров.
В его больших листах я дам приют уму,
Я с помощью ветвей свои взлелею мысли,
Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли
И ты причастен был к сознанью моему.
(«Завещание», 1947)
Отсюда в тексте Винокурова появляются сниженные «жучки», «травы» и «цветы». А деминутивы («холмик на Ваганькове», «зонтик», на который будет опираться возлюбленная поэта) призваны подточить жизнеутверждающий горацианский пафос и обнажить суровую истину: «Лгут все поэты! Надо быть / беспощадным». «Пиит» будущего, на которого уповал Пушкин в своем «Памятнике», стремится порвать порочную традицию лжи: бессмертия не будет (вера в вечную жизнь плохо согласовывалась с идеалами советской эпохи), вместо не зарастающей народной тропы - единственная посетительница холмика, «под которым лежит Ничто» [курсив Е. Винокурова. - Ю.К.]. Однако, как ни странно, Винокуров приходит к общему знаменателю с традицией: творения переживут поэта. «Но мальчик, прочитавший / Моё стихотворение, / Взглянет на мир / Моими глазами».
В том же выпуске альманаха «День поэзии» за 1962 год появилось стихотворение Давида Самойлова «Старик Державин», связанное с текстом Винокурова несколькими прямыми лексическими перекличками. В обоих стихотворениях речь идет о «передаче лиры» и о «рукоположении» в поэты/пророки, хотя в переосмысляемом Винокуровым пушкинском «Пророке» нет мотива поэтической преемственности от «старшего» поэта к «младшему» (поэт-«пророк» тем и уникален, что получил свой дар свыше). Если у Винокурова ангел, принявший на себя еще и функцию старшего современника, «вручающего лиру», оказывается бесполезным, потому что он «рукоположен» самой войной (парадоксальным образом показанной через слабость, а не через силу), то у Самойлова «посвящения в поэты» не происходит вообще.
Это не для самооправданья:
Мы в тот день ходили на заданье
И потом в блиндаж залезли спать.
А старик Державин, думая о смерти,
Ночь не спал и бормотал: «Вот черти!
Некому и лиру передать!»
Ранняя дневниковая запись Самойлова свидетельствует о том, что и ему не чуждо было ощущение сверхуникальности военного опыта, способного переродиться в новую поэзию: «…Была уверенность, что только мы, фронтовики, видели и поняли трагедию войны. И что именно это есть главная тема поэзии. И что для выражения ее нужны грубые, заскорузлые слова, особый наш новый поэтический язык» . Но, в отличие от Винокурова, Самойлову и участия в войне оказывается недостаточно для того, чтобы стать поэтом. «“Старик Державин”, знающий, что “лиры запросто не дарят” (как не дарят их и за ратную службу), мудрее и выше честно исполняющих долг поэтов-солдат, хотя и кажется им “льстецом” и сановником (“в чинах”)», ? убедительно истолковывает несостоявшееся «рукоположение в поэты» А.С. Немзер. Как показывает исследователь, в действительности Самойлов удостаивался благословения от старших коллег-поэтов даже не единожды: от почитаемого в юности И.Л. Сельвинского и от великой современницы А.А. Ахматовой. За фигурой «старика Державина» в тексте Самойлова просвечивают не только они и не только действительный «наставник» Пушкина, но и редко удостаивавший своего поэтического благословения Б.Л. Пастернак, в его до-репрессированном состоянии: «Перед войной и в 1946 году (до постановления ЦК) [Пастернак] воспринимался как поэт если не близкий к власти, то ею заласканный». Таким образом, Самойлов утверждает, что среди поэтов военного поколения «нет Пушкина». Ср. поздний текст Б. Окуджавы «Перед витриной», где переворачивается весь миф о становлении поэта на войне: «Может, я бы стал поэтом, если б не было войны». Без фигуры Державина в 60-х непредставим миф «об экзамене-инициации как моменте рождения Пушкина-поэта» . Именно о державинском благословении просит Николай Доризо в стихотворении «Слава»: «Хочу услышать похвалу. / Заметь меня, старик Державин, / Но хоть я дьявольски тщеславен, / Пусть слава подойдет к столу» . Сергей Дрофенко в 1966 году публикует в «Дне поэзии» стихотворение «Державин» с финалом, явно «оглядывающимся» на текст Самойлова:
Солдат Преображенской роты,
эпикуреец, крепостник -
передо мной, шагнув сквозь годы,
сегодня снова он возник.
Не зря ведь Пушкин, ликом светел,
о том, кто был ворчлив и хил,
сказал: «Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил...»
Текст Дрофенко, построенный на диалоге с державинскими стихами, представляет эволюцию поэта: по очереди возникают строки из стихов «На смерть князя Мещерского» (1779), «Властителям и судиям» (1780), «Бог» (1784), и, наконец, «Приглашение к обеду» (1798). Венцом всего державинского творчества оказывается Пушкин: именно его строки из восьмой части «Евгения Онегина» замыкают текст.
1.5 Пушкин и космос
Если тема войны допускала различные, часто противоположные трактовки, обвинения и оправдания, то прорыв в космос оценивался только положительно: особенно радовало, что «для завоевания его не требовалось кровопролития» . Советских космонавтов знали не только по именам, они были настоящими героями. Журналы с одинаковым воодушевлением печатали научно-популярные репортажи о технической стороне дела (например, о перегрузках, которым подвергается космонавт ) и фантазийные размышления о скором контакте с инопланетянами (например, «о перспективах установления связи с цивилизациями, обитающими вблизи других звездных миров - Тау Кита и Эпсилон Эридана» ; ср. песню Владимира Высоцкого 1966 года: «В далеком созвездии Тау Кита / Все стало для нас непонятно, ? / Сигнал посылаем: "Вы что это там?" ? / А нас посылают обратно»). В задачи поэзии входило не только не отставать от темпа технического прогресса, казавшегося бешеным, но при этом не терять в качестве. Мерилом поэтического мастерства неизменно оставался Пушкин. «Нам известны имена космонавтов. Но в поэзии их полет передавался чаще всего примитивными способами», ? сетует журналистка в 1963 году и предлагает современным поэтам единственно достойный ориентир: «Наш современник живет в другом мире, он стал богаче и сильнее, но с точки зрения антропологии он мало чем отличается от современника Пушкина», а «поэты прошлого порой бывают современнее нынешних» . Пушкин оправдывает возложенную на него миссию провидца в стихотворении Фазиля Искандера «Звездная сестра» (1963), посвященном полету первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Восхищаясь подвигом «юного ангела в шлемофоне», узрев который «даже женоненавистник / меняет взгляды на ходу», Искандер заканчивает свой текст так:
А мы, страны твоей поэты,
Прозрев грядущий ореол,
Гораздо раньше, чем ракета,
Мы возносили женский пол.
С улыбкоюиз дали дальней,
Сквозь годы бед и нищеты
Сам Пушкин пел первоначально
Твои небесные черты…
Новое время подсказывает новое прочтение пушкинских стихов: в лирическом шедевре Пушкина вместо Анны Керн свидетели космической эпохи хотят видеть женщину-космонавта. Сакрализация героев космоса («Мы ловим крыльев мягкий шорох / Во всех приемниках земли») превращает их в лишенных недостатков, универсальных людей. К универсальности стремятся и сами космонавты: «…Космонавт не может, да и не должен замыкаться в какой-то одной области знаний. История, искусство, радиотехника, астрономия, спорт, поэзия…», ? заявляет Юрий Гагарин в интервью своему биографу .
Таким образом, поэзия (Пушкина) и космонавты оказываются взаимоориентированными и необходимыми друг другу: «Вздыхает над Блоком ученый-ракетчик. / И Пушкина шепчет веселый полярник. / И к звездам дорога становится легче. / И строчки, как кони, летят над полями» , ? пишет в том же 1963 году Борис Куняев («Поэзия»). С еще большей прямотой о том же годом ранее говорит Виктор Боков («Пушкин и Маяковский»):
Александр Сергеич!
ВладимВладимыч!
Ваши вершины снежно горды.
Вы нам оба необходимы,
Как хлеб, как глоток
Ежедневной воды.
<…>
Великолепны над вами рассветы,
О вашу бронзу звенит ветерок,
И уходящие в космос ракеты
Не могут без вас и без ваших строк!
Как видно, в космос берут разных поэтов (Блока, Маяковского), но без Пушкина, хоть и бронзового, не обходится никогда. Даже в виде памятника он остается незаменимой частью русской культуры, достоянием которой теперь является и космос, как показывает Василий Кулемин в тексте 1963 года:
Ты видела ль, что Пушкин грустный
На площади? Хотя вокруг народ.
С грустинкою заметной и пейзаж наш русский,
И зря мы думаем, что все наоборот.
<…>
Мы одиночество и в космосе решили,
О, как бы на земле его решить,
Теперь не трудно на земле решить .
Гармонизирующим оптимизмом наполнено и стихотворение Алексея Зауриха «Прекрасен тот дом без прикрас» (1966), посвященное Пушкинскому Дому. Очевидно держа в памяти блоковское обращение к Пушкинскому Дому с его уверенностью в радостном будущем («Пропуская дней гнетущих / Кратковременный обман, / Прозревали дней грядущих / Сине-розовый туман» ), Заурих ощущает себя полностью причастным к нему: «И так же, как ночи и дни, / тишайшие утра и громы, ? / естественны окон огни, / березы и ракетодромы» . Вся эта «гармония и совершенство» возможны только в России: «Россия - мой Пушкинский Дом / Под пушкинским небом нетленным». Ср. с пессимистичной версией этой формулы в романе А.Г. Битова «Пушкинский дом», писавшемся с 1964 по 1971: «…И русская литература, и Петербург (Ленинград), и Россия, - все это, так или иначе, ПУШКИНСКИЙ ДОМ без его курчавого постояльца...» .
2. Индивидуальные концепции пушкинского мифа
В 1966 году в альманахе «День поэзии» и в журнале «Юность», отделом поэзии которого несколько лет заведовал Сергей Дрофенко, были напечатаны несколько его стихотворений, аккумулировавших пушкинские мотивы: «Снимок из Михайловского», «Державин» и «Святые горы». Тексту о Михайловском предпослано посвящение С.С. Гейченко, директору Пушкинского заповедника. Превращение «пушкинских мест» в туристическую локацию началось не так давно (в начале 1960-х) и требовало поэтического осмысления. Отсюда и просвечивающая двойственность пушкинских вещей: рубаха, шляпа и палка принадлежат живому Пушкину, терзаемому мыслями о долгах, и в то же время, это музейные экспонаты, взятые в своей неподвижной мертвенности: «Та же в рабочем столе / Сохнет страница. /
В том же враждебном стволе / Пуля хранится» . Здесь Пушкин уезжает из Михайловского прямо на смерть. Предсказывается (предчувствуется) и невозвращение, и дуэль. Единственная константа в этом сквозящем разными временами пространстве - михайловская природа, озера, сосны и ели, которые до сих пор ждут своего хозяина, хоть и знают, что «будет не скоро». Еще труднее представить гармоничным столкновение двух веков - XIX-го и XX-го - в едином пространстве в стихотворении «Святые горы». Идиллический пейзаж экспозиции подытожен словами: «Так этот край сроднился со стихами, / что вправду здесь поэзия - закон». Вполне понятно, о каких именно стихах идет речь.
И в сумерках вдоль облачной гряды,
смыкая разговорчивые кроны,
дубы широколистые и клены
выстраивают пестрые ряды.
Протяжный свет струится из окон.
Бредут стада, гонимы пастухами .
Это описание у Дрофенко перепевает пушкинский пейзаж деревни, где скучал Евгений Онегин:
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали селы; здесь и там
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный, запущенный сад,
Приют задумчивых дриад .
А появление Пушкина -
Здесь на капризном, взмыленном коне
сводить с ума стихом и словом острым
скакал он через лес к тригорскимсестрам
навстречу ночи, ветру и луне .
- как будто напрямую взято из стихов Н.М. Языкова, навещавшего поэта в Михайловском.
И там, у берега, тень ивы,
И те отлогости, те нивы,
Из-за которых, вдалеке,
На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый,
Спеша в Тригорское, один --
Вольтер и Гете, и Расин --
Являлся Пушкин знаменитый…
Нарочито интертекстуальный девятнадцатый век и его поэтическая эмблема - Пушкин - противопоставлен «презренной прозе» века двадцатого с его прикладным отношением к пушкинским местам, где теперь «к услугам экскурсантов бакалея». И только фигура поэта становится связующей: «Но что же делать мне, когда в лугах / глотаю я сегодня тот же ветер / и вечность, а не только этот вечер, / ношу росу все ту же на ногах!» Избегая нередкого в поэзии «оттепели» панибратства с Пушкиным, Дрофенко все же оставляет ощутимую дистанцию между собой и первым поэтом:
Не смеет и в мечтаньях голос мой
сравниться с неподкупным тем и
прежним,
оборванным
ничтожеством заезжим
в минувшем веке,
в год тридцать седьмой...
2.1 Юрий Левитанский
Юрии Левитанский - поэт из поколения Давида Самойлова, которое «называют остановленным или задержанным на пути в печать» [курсив С.С. Бойко. - Ю.К.].Несмотря на публикации в видных изданиях («Смена», «Знамя», «Огонек», «День поэзии» и мн. др.) и восемь поэтических сборников, Левитанский оставался в тени. Настоящим прорывом стала книга «Кинематограф» (1970), когда будто впервые прозвучал голос зрелого и мощного поэта. Для поколения 20-х, видевшего только советскую реальность, деломжизни становилось «поэтапное преодоление революционаризма, замена его на иную экзистенциальную парадигму, “уходящую корнями в христианскую нравственность (классическая русская культура)”, однако, естественно, неравную ей». На излете 50-х Левитанский напишет:
Я рос в те незабвенные года,
овеянные пафосом начала,
где музыка ударного труда
так чисто и возвышенно звучала.
<…>
Но время шло, скрипя на тормозах,
тащилось по невидимой спирали,
и старились ответы на глазах
и в возрасте преклонном умирали.
<…>
Да как же так! Ты был не так уж мал!
Ты шел в огонь, гранатами обвязан!
И нам плевать, что ты не понимал!
Ты должен был понять! Ты был обязан!..
Для Левитанского (как и для Д. Самойлова и Б. Окуджавы) связь с классической русской литературой была и органичной, и спасительной. Диалог Левитанского с прошлым был вдумчив и серьезен, а на современников поэт нередко смотрел сквозь призму незлой иронии. Циклы знаменитых пародий Левитанского, первый из которых опубликовал альманах «День поэзии» в 1963 году, не создавали поэту врагов, а позже и вовсе стали своеобразным свидетельством отмеченности: «В литературной ситуации семидесятых годов пародироваться у Левитанского стало почетнее, чем получить высокую официальную премию», по остроумному замечанию автора «Книги о пародии В. Новикова» .
Свое отношение к Пушкину Левитанский определил в статье с полемичным, согласно автохарактеристике, названием «Четырехстопный ямб мне надоел…»: «“Не писать, как Пушкин, а искать, как Пушкин” ? так сформулировал бы я суть традиции пушкинской для поэзии современной» [курсив Ю. Левитанского. - Ю.К.]. На протяжении всех 60-х годов велись сосредоточенные поиски формулыпушкинской легкости, простоты, изящества, искренности etc., которую смогли бы усвоить современные поэты. Пушкин «оттепели» ? это тонкий лирик, великодушный гуманист, автор послания «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…». Учиться у Пушкина простоте - было одним из постоянно дискутируемых призывов эпохи. Самуил Маршак призывал Пушкина в образцы как «аристократа по происхождению и по безупречному вкусу». О новаторстве современных поэтов высказался и Александр Безыменский:
1
Пишите, юные, на свой манер.
Дерзайте быть новаторами ярыми!
Но иногда писать не вредно и по-старому:
Кан Пушкин, например…
2
Отнюдь не значит этот разговор,
Что Пушкин Маяковского важнее.
Средь критиков, о том ведущих спор,
Мне тот смешон, кто до сих пор
Поэтам не велит проламывать забор,
Воздвигнутый из ямба и хорея .
По мнению Левитанского, по-настоящему учиться у Пушкина - это и значит быть новатором, но «к сожаленью, в нынешней нашей поэзии, и особенно в поэзии молодой (что особенно странно!), инерция слишком часто вытесняет традицию». Противополагая неотрефлексированное подражание осмыслению и переосмыслению, Левитанский апеллирует к пушкинскому обычаю отвергать свои же отработанные приемы и устоявшиеся формы. Чтобы доказать современное звучание стихов Пушкина, поэт выбирает строки, замечательно иллюстрирующие излюбленные приемы самого Левитанского:
Что горит во мгле?
Что кипит в котле?
Фауст, ха-ха-ха,
Посмотри, уха,
Погляди, цари --
О вари, вари!
Параллелизмы, звукоподражательные междометия, повторы, нередко доходящие до тавтологии - это средства, которыми Левитанскийдостигает своего индивидуального стиля.
К этому инструментарию следует добавить тавтологичную и глагольную рифму («После Пушкина никто, кажется, так не любил глаголы, никто их так изысканно не рифмовал, не перекатывал по строке, как волна перекатывает гальку - шурша и звеня», ? скажет о нем Е. Бершин) ? и будет готов «формальный» портрет стихотворения «В Ленинграде, когда была метель».
Все вьюжит и вьюжит.
Смотрите, вам холодно будет.
Кончается полночь,
а Германна нет,
и не будет.
Ну, будет вам, Лиза,
не надо печалиться очень.
Вы знаете, Лиза,
ведь вы меня любите очень.
Складывается впечатление бесконечного кружения, хождения по кругу. Буквальные лексические повторы использует в «Метели» и Пушкин: «Метель не утихала» повторяется по крайней мере три раза, без изменений. Кружение «Метели» заставляет героя заблудиться, и точно так же заблудился лирический герой Левитанского, только зашел он немного дальше: он «в этом столетье впервые». Это не может не напомнить пастернаковского вопроса: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?». Перекличка со стихотворением Пастернака «Про эти стихи» (1917) возникает не случайно. Текст тоже начинается с метели:
Буран не месяц будет месть.
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть;
Увижу: свет давно не тот.
Случившаяся дальше встреча с Байроном и Эдгаром По подготавливает встречу с Пушкиным в стихотворении Левитанского, но через его тексты, концы и начала которых заметаются и смешиваются. Заявленная в названии «Метель» сливается с «Пиковой дамой», причем, в оперной интерпретации Чайковского. Справедливым кажется суждение Б.М. Гаспарова, что «отнюдь не малое число литературных произведений начала <добавим от себя: и не только начала. - Ю.К.>XX века, и прежде всего “Петербург” Белого, выглядят наводненными образами и ситуациями “Пиковой дамы” - и скорее Чайковского, чем Пушкина».
Именно из оперы «Пиковая дама» и Лиза с Германном, которого все нет, и близящаяся полночь (хотя она застает врасплох и заблудившегося героя «Метели») и «мокрый снег», и «бесконечная мазурка», и неизменно сопутствующая ей «мазурочная болтовня»:
Ты любишь, скажи мне?
Ты любишь?
Скажи мне, ты любишь?/
А ты меня любишь?
А ты?
Ну, а ты меня любишь?/
Люблю тебя, Лиза!
Нет, Ольга!
Зови меня Ольгой!/
Как странно --
я звал тебя Лизой,
я знал тебя Ольгой.
Герой забалтывается до последнего предела, до потери смысла сказанного. Похожее кружение метели и забалтывание появляется и в других стихотворениях Левитанского, например, в известном «Диалоге у новогодней елки», где после тавтологичного разговора в сухом остатке - только три доли вальса:
-- Что же за всем этим будет? -- А будет январь.
-- Будет январь, вы считаете? -- Да, я считаю.
Я ведь давно эту белую книгу читаю,
этот, с картинками вьюги, старинный букварь.
-- Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку,
и -- раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три!..
В интересующем нас тексте точно так же остается только голый ритм, который из ритма вьюги перетекает в ритм мазурки и становится мерно-убаюкивающим ритмом колыбельной: «И вьюга мазурки / меня навсегда засыпает. / И Лиза моя / на руке у меня / засыпает». Все погружается в сон после бесконечного танца еще в одном пушкинском тексте, в «Евгении Онегине», поэтому герой Левитанского путает Лизу именно с Ольгой, что само по себе отсылает к запутавшемуся Маяковскому в «Юбилейном»: «Как это у вас говаривала Ольга?.. / Да не Ольга! Из письма Онегина к Татьяне». «Евгений Онегин» в стихотворении Левитанского также существует в оперном изводе, но и текст романа в стихах остается важным:
Заметив, что Владимир скрылся,
Онегин, скукой вновь гоним,
Близ Ольги в думу погрузился,
Довольный мщением своим.
За ним и Оленька зевала,
Глазами Ленского искала,
И бесконечный котильон
Ее томил, как тяжкий сон.
Но кончен он. Идут за ужин.
Постели стелют; для гостей
Ночлег отводят от сеней
До самой девичьи. Всем нужен
Покойный сон.
Возможно, не лишним здесь будет вспомнить довольно страшную колыбельную Блока, написанную, ровно тем же усыпляющим пятистопным амфибрахием:
Усните, блаженно, заморские гости, усните,
Забудьте, что в клетке, где бьемся, темней и темнее…
Что падают звезды, чертя серебристые нити,
Что пляшут в стакане вина золотистые змеи…
Когда эти нити соткутся в блестящую сетку,
И винные змеи сплетутся в одну бесконечность,
Поднимут, закрутят и бросят ненужную клетку
В бездонную пропасть, в какую-то синюю вечность (1908).
Ленинградская метель у Левитанского тоже заканчивается жутким вечным сном: «И трудно уснуть, / и совсем невозможно / проснуться». К финалу исчезают и тавтология, и легкомысленная звуковая игра. Прочная ассоциация Пушкина с метелью оркестрована гораздо более серьезно, чем, например, у Окуджавы, тоже обыгрывающего ее в стихотворении 1966 года:
Не представляю Пушкина без падающего снега,
бронзового Пушкина, что в плащ укрыт.
Когда снежинки белые посыплются с неба,
мне кажется, что бронза тихо звенит.
Во-первых, для Левитанского Пушкин - совсем не памятник, и нет надобности называть его имя, которое в это время в печати звучит, пожалуй, слишком часто. Во-вторых, зачарованность Пушкиным, который заколдовывает своими текстами, становится роковой. И от нее не спасает ни время (герой возвращается в исходную точку, где все впервые), ни расстояние. Ленинград, а не Петербург, вроде бы маркирует разорванность с Пушкиным, а все-таки это его город и пушкинская власть над ним непоправима и неизменна. В том же сборнике Левитанского «Земное небо» есть еще одно стихотворение, в котором имя Пушкина не названо, но ассоциации с ним довольно сильны. Это «Стихотворение, в котором появляется гусь». По замеченной Пастернаком закономерности, Левитанский рифмует Пушкина с гусями и со снегом. Хотя известно, что Пушкин полноценно посетил всего лишь одно арзамасское заседание, его причастность к этому свободолюбивому литературному обществу прочно вошла в миф о нем. В тексте Левитанского происходит любопытная перестановка. Гусь из стихотворения прямо противоположен настоящему арзамасскому гусю. Из протокола инициации Василия Львовича Пушкина в Арзамасское общество можно почерпнуть, что «истинный символ Арзамаса, сей благолепный гусь щиплет своим победоносным клювом беседных халдеев». Под ними разумеются ретрограды из «Беседы», которых легко себе представить в роли защитников оды. Ясно, что в тексте Левитанского речь идет о современных ему приверженцах од и восхвалений, которые обречены на скорое забвение:
Те перья исписаны так
в угоду вчерашнему вкусу,
что даже по старому курсу
цена им примерно пятак.
Стихотворение как раз о том, что, даже оставаясь печатавшимся «легальным» поэтом, на сделку с совестью Левитанский идти не готов. А Пушкин становится для него чем-то вроде нравственной опоры. В своем первом опубликованном стихотворении «К другу стихотворцу» (1814) Пушкин призывает «оставить перо и чернилы» и наставительно замечает:
Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет
И, перьями скрыпя, бумаги не жалеет.
Хорошие стихи не так легко писать,
Как Витгенштеину французов побеждать.
Есть у гусиных перьев и реальный план - по множественным мемуарным свидетельствам, Пушкин писал «огрызками перьев, которые было практически невозможно держать в руках». На это есть указание в чванливой речи гуся: «Он не знал авторучек, но были стихи хороши», хотя речь здесь идет о «гениальном поручике» Лермонтове. А в метафорическом плане «перо в руке» ? это крайне частотный, если не шаблонный символ творчества и чуть ли не постоянный атрибут Пушкина. Например, обыгрывается это в финале опубликованного на 2 года позже Левитанского стихотворения Марка Соболя «Строчки»: «…Всю ночь грызет перо гусиное / И чертит виселицы Пушкин». Левитанский снижает эту слишком ходовую метафору творчества, противостоит ее сакрализации и подводит итог: «И дело не в перьях, о нет, / а в совести, чести и вкусе». Принципиально вне моды Пушкин находится и для Фазиля Искандера, в том же году писавшего: «А кто вне временных судеб, / Как Пушкин, как Толстой, как хлеб? // А ты? Что скажешь ты, художник? / Каменотес, бунтарь, безбожник, / Чего бы мода ни велела, / Молчи и делай свое дело / Спокойно, смело». Именно эти качества Пушкина в сочетании с декларацией вкуса у арзамасцев становятся ориентиром для Левитанского, который находился в непростом положении официально признанного советского поэта, не желающего при этом кривить душой и полагающего, что «ода нелепа, как старый комод».
2.2 Герман Плисецкий
О напряженной рефлексии над включенностью в круг истинных поэтов свидетельствуют многие тексты Германа Плисецкого (1931-1992). Кажется, для него особенно значимым было чувствовать или даже доказывать свою причастность к русской поэзии. О том, что этот вопрос действительно был для него болезненным и непростым, свидетельствуют многие его тексты, например, позднее стихотворение: «Я всю жизнь как будто на отшибе» (1987), где Плисецкий, возможно, не без оглядки на цветаевское «Я тоже была, прохожий», обращается к собеседнику-современнику:
Видел ты меня или не видел?
Может быть, и видел, да забыл…
Слишком мало доказательств выдал
Я того, что между вами был .
В тексте, где поэт пытается определить свое место между другими поэтами, далеко не случайно возникает диалог с Пушкиным. На реминисценцию стихотворения А.С. Пушкина «Он между нами жил…» (1834), адресованного к А. Мицкевичу, указывает во вступительной статье ко второму опубликованному в 2006 году сборнику стихотворений Плисецкого А.С. Немзер . Пушкин и Мицкевич появятся вместе как соратники по тайному союзу гениев в стихотворении Плисецкого «Зимняя ночь», закрывающем посвященный Пушкину цикл «Михайловские ямбы».
Пушкин почти не исчезает из поля зрения Плисецкого. К примеру, восприятие фактографичной и социально-заостренной поэмы «Труба» (1965) об апокалиптической давке на Трубной площади в дни прощания с И.В. Сталиным невозможно без «Медного всадника» (1833) Пушкина. Мотив безумия и гибельной зачарованности стихией, принципиально важная для поэтики «Трубы» водная метафора находят истоки в пушкинской поэме о петербургской катастрофе. Не обходится без Пушкина и разговор о поэте и поэзии. Даже в стихах с иным адресатом-поэтом возникает апелляция к пушкинскому мифу. Речь идет о стихотворении «Памяти Пастернака» (1960), без которого невозможно говорить о пушкинской теме у Плисецкого. Некоторые устойчивые образы «перекочуют» из этого текста в цикл «Михайловские ямбы», а пастернаковский взгляд на Пушкина станет ключом к пониманию цикла Плисецкого.
Тема тривиализации пушкинского наследия, его превращение в музейный экспонат волновала. В 1963 году поэт побывал в Тригорском, Михайловском и Пушкинских Горах, что послужило поводом к созданию цикла «Михайловские ямбы». Два стихотворения из цикла - «Мазурка» и «Зимняя ночь» - были напечатаны в «Юности» спустя год после стихов С. Дрофенко, в 1967, но писались раньше: с 1963 по 1966. Логика цикла Плисецкого плавно подводит читателя к первостепенной теме творчества в изгнании, которая наиболее полно реализуется в последнем стихотворении «Михайловских ямбов» ? «Зимняя ночь». Все время «бывший на заднем плане», разрастается мотив творческой работы. В первом стихотворении цикла «Дорога в Тригорское» звучит желание стать «безвестным летописцем Алексашкой, / сверкать зубами, красною рубашкой / прилежно выводить полуустав», в котором обыгрывается пушкинская надпись на первом листе завершенной в Михайловском трагедии «Борис Годунов»: «Писано бысть Алексашкою Пушкиным, В лето 7333 На городище Ворониче». Несбыточность альтернативная судьбы, вслед за Блоком («Грешить бесстыдно, непробудно…») выраженной Плисецким чередой инфинитивов, уравновешивается примиряющим финалом второго стихотворения цикла «Мазурка»: «И только при свече спокойной, / при табаке и при сверчке / жизнь становилась легкой, стройной, / как сосны, как перо в руке». Сосны в художественном мире Плисецкого имеют и пушкинский (три сосны из «Вновь я посетил…»), и пастернаковский генезис: «И вот, бессмертные на время, / Мы к лику сосен причтены, / И от болезней, эпидемий / И смерти освобождены» («Сосны», 1941). Образ сосен приходит в «Михайловские ямбы» из стихотворения «Памяти Пастернака» (1960), принесшего Плисецкому известность, которое заканчивается словами: «Лишь сосны с поэзией честно поступят: / Корнями схватив, никому не уступят». А.А. Ахматова, например, говорила о нем: «Его стихотворение “Поэты, побочные дети России…” - лучшее из всего созданного в честь Бориса Пастернака» . Текст принадлежит к «особому циклу “Смерть поэта”», сложившемуся в русской поэзии. Это понятие ввел Г.А. Левинтон в ряде работ, подытоженных статьей «Смерть поэта: Иосиф Бродский» , посвященной Бродскому, но напрямую затрагивающей тему смерти поэта в русской литературе в целом. А образ свечи, почти утративший реально-бытовую мотивировку, встраивается в ряд поэтических атрибутов, которыми охотно пользовались многие «оттепельные» поэты в разговоре о Пушкине, например, Белла Ахмадулина в прославленном тексте «Свеча»:
Всего-то - чтоб была свеча,
Свеча простая, восковая,
И старомодность вековая
Так станет в памяти свежа.
<…>
И Пушкин ласково глядит,
И ночь прошла, и гаснут свечи,
И нежный вкус родимой речи
Так чисто губы холодит.
Мотивом творчества как ремесла скрепляются два последних текста «Михайловских ямбов» Плисецкого.В третьем стихотворении цикла ? «К Вульфу» ? поэт решается на смелый шаг: говорить от лица Пушкина. Такое решение подготавливается всей логикой «Михайловских ямбов»: первое стихотворение содержит трансляцию пушкинских мыслей, во втором Пушкин и автор цикла объединены в общее «мы», и, наконец, третье стихотворение написано целиком от первого ? пушкинского ? лица. Выбор адресата - А. Н. Вульфа, во времена Михайловской ссылки Пушкина - дерптского студента и его тригорского соседа, неизбежно вызывает в памяти стихотворение «Из письма к А.Н. Вульфу», написанное в 1824 году, почти сразу по прибытии поэта в Михайловское. Игривый тон послания, приглашающего Вульфа разделить с Пушкиным эпикурейские наслаждения - посоревноваться в ухаживаниях за тригорскими барышнями и распить «бутылок полный ящик» ? сохраняется и в первом катрене стихотворения Плисецкого. Первой непреложной радостью «жизни анахорета», которую прославляет Пушкин и Плисецкий от его имени, являются хорошенькие женщины. Второй компонент счастливой уединенной жизни меняется: у Пушкина это вино («право, клад»), а у Плисецкого - «игра на бильярдах в три шара».
Изображая «в 4-й песне “Онегина” свою жизнь» , Пушкин упоминает и о бильярде:
Тупым кием вооруженный,
Он на бильярде в два шара
Играет с самого утра.
Настанет вечер деревенский:
Бильярд оставлен, кий забыт,
Перед камином стол накрыт,
Евгений ждет: вот едет Ленский
На тройке чалых лошадей;
Давай обедать поскорей!
Процесс превращения Михайловского в «курортное местечко» начался уже в 60-х, и одним из первостепенных дел устроителей и реставраторов стало воссоздание обстановки дома, где жил Пушкин. В деле восстановления добрались и до пушкинского бильярда: стол не сохранился, а вот «тот самый кий, те самые шары, которыми играл на бильярде Пушкин» уцелели. «В 1944 году их спрятал один из служащих заповедника» , ? сообщается в книге «Там, где шумят Михайловские рощи». Следовательно, Плисецкий, в 1963 году посетивший пушкинские места псковской губернии, мог собственными глазами увидеть «тупой кий и три желтоватых бильярдных шара из слоновой кости» . Возможно, реальное количество шаров и подсказало поэту образ карамболя, ставшего символом невозможности полного понимания гения его современниками («И так всю жизнь: верченье шара / вокруг другого - карамболь»).
Финал стихотворения «К Вульфу» вводит тему пользы, переводя игривую «болтовню» с тригорским соседом в высокую тональность - в сакральную сферу творчества: «А в сердце боль, сосед любезный, / для мастеров - предмет полезный, / годится в дело эта боль». Казалось бы, странно слышать это из уст Пушкина, который с презрением говорил в стихотворении «Поэт и толпа» (1836):
Тебе бы пользы всё -- на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь .
Резкость этого суждения была сглажена В.Г. Белинским в статьях о Пушкине. Критик доказывал, что полезными являются не дидактические стихи, а как раз «звуки сладкие и молитвы» истинного поэтического искусства, способные наилучшим образом воспитать человека. Однако, по мнению Белинского, настоящего поэта взращивает нация, народ, а значит «каждый умный человек вправе требовать, чтоб поэзия поэта или давала ему ответы на вопросы времени, или по крайней мере исполнена была скорбью этих тяжелых, неразрешимых вопросов» . Из этой идеи вырастает лирика Н.А. Некрасова, отстаивающая гражданственность как признак истинной поэзии: «И не иди во стан безвредных, / Когда полезным можешь быть!». Пушкин, говорящий о пользе, ? это Пушкин 1960-х годов, когда вопрос о гражданской или чисто этетической теме поэзии снова стал острым и дискуссионным. О пользе говорит и Пушкин Сергея Дрофенко: «И старая надежда греет грудь, / когда к чернилам льнет скрипун железный: / быть может, я смогу окончить путь, / оставив след, сердцам небесполезный». Именно мотив пользы, мастерства смыкает стихотворение «К Вульфу» с «Зимней ночью».
Каждое стихотворение «Михайловских ямбов» имеет фабульную основу, соотносящуюся с событиями жизни Пушкина в изгнании: прибытие в ссылку, досуг в обществе тригорских барышень, времяпрепровождение с Алексеем Вульфом. Ситуационный фундамент последнего стихотворения цикла - посещение И.И. Пущина в январе 1825 года. Почти единственным документальным свидетельством этой встречи (кроме стихов Пушкина) стали пущинские «Записки о Пушкине», отсылка к которым в «Зимней ночи» возникает раньше, чем упоминание имени «первого, бесценного друга» Пушкина, в стихе: «Из комнат непротопленных несло». «Дверь во внутренние комнаты была заперта - дом не топлен», ? это одно из первых впечатлений Пущина после момента встречи с лицейским другом. Более обстоятельно Пущин описывает следующую историю, приключившуюся с «нетопленными комнатами» в день его посещения: «К несчастию, вдруг запахло угаром. <…> Няня, воображая, что я останусь погостить, велела в других комнатах затопить печи, которые с самого начала зимы не топились. <…> В порыве досады я даже упрекнул няню, зачем она не велит отапливать всего дома. Видно, однако, мое ворчание имело некоторое действие, потому что после моего посещения перестали экономничать дровами» . «Уехал Пущин», не оставшись погостить. Отъезд друга вместе с образом ночного светильника, сопровождавшего творческую работу Пушкина, образует рамку стихотворения, внутри которой помещен диалог царскосельских товарищей. Говорили о «новом служении отечеству», но по сравнению с «Записками» Пущина, которому принадлежит это выражение, в стихотворении Плисецкого разговор и более развернут, и более концептуален. Смешно сказать, но инциденту с неудачной попыткой протопить комнаты для дорогого гостя Пущин уделяет больше слов, чем изложению беседы с Пушкиным о тайном обществе. Более того, судя по «Запискам», Пущин вовсе не ответил на реплику поэта: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь» , ? друзья лишь молча обнялись. Плисецкий, отступая от источника, делает развернутой именно пущинскую речь:
«Нет, Пушкин, нет! Но если бы и да:
Ваш труд не легче нашего труда,
Ваш заговор сильней тиранов бесит.
И, может быть, всю нашу перевесит
Одним тобой добытая руда» (92).
За неопределенностью ответа Пущина (сначала отрицательного, затем положительного) следует поэтически сформулированное убеждение Плисецкого в предназначении поэта: поэтическое творчество - не менее достойное «служение отечеству».
Вместе с тем, от первого стихотворения к последнему авторская интонация становится все более серьезной. Движение к «возвышению» над разыгрываемой в тексте лирической ситуацией наблюдается в каждом из четырех стихотворений. В «Дороге в Тригорское» описание порывистого и темпераментного Пушкина, сверкающего «зубами и красною рубашкой», нейтрализуется почти зловещей усмешкой египетских сфинксов: «Гремели слева синие валы, / плыла в пыли походная кибитка. / Гремели справа зимние балы, / и усмехались сфинксы из Египта».Загадочный и неожиданный образ сфинкса - прямая отсылка к пастернаковскому циклу «Тема с вариациями», который при первой публикации в 1923 году в альманахе «Круг» носил название «Стихи о Пушкине». К.М. Поливанов полагает, что одной «из причин появления сфинкса в “Теме” Пастернака» является картина И.К. Айвазовского «Пушкин в Крыму у Гурзуфских скал» (1880): «Поза Пушкина -- одной рукой он подпирает подбородок, другую положил перед собой -- напоминает позу, в которых изображали лежащих сфинксов» .
В тоне автора романа в стихах, говорящего на любые занимательные для него темы, написан второй катрен «Мазурки», который, отчасти, пародирует «мазурочную болтовню» (пушкинское выражение из «Пиковой дамы» ):
Иным - в аптечную мензурку
Сердечных капель отмерять.
Нам - в быстротечную мазурку
С танцоркой лучшею нырять (89).
Отступления в «Евгении Онегине» нередко носят характер обобщения: «Люблю я бешеную младость», «Мы все учились понемногу / Чему-нибудь и как-нибудь», «Чем меньше женщину мы любим, / Тем легче нравимся мы ей» и т.д. Таким образом, и Плисецкий расширяет заданные рамки, переходя на уровень обобщения в стиле Пушкина-повествователя («Иным…» ? «Нам…»). Следующим шагом - в третьем катрене - уже совершается выход и за пределы «Евгения Онегина», в сферу реальной жизни Пушкина:
Бросаясь в каждый омут новый,
Поди-ка знай, каков конец:
Что за Натальей Гончаровой
Дадут в приданое свинец (90).
Здесь происходит сильный временной скачок: от 1825-1826 годов - времени работы над «Евгением Онегиным» ? к событиям 1830-х годов - сватовство и женитьба на Н.Н. Гончаровой и, наконец, роковая дуэль. По иронии судьбы, пуля Дантеса действительно оказалась единственным приданым, доставшимся Пушкину от невесты: она была бесприданницей. В письме П.А. Плетневу от 31 августа 1830 года Пушкин огорченно пишет: «Дела будущей тещи моей расстроены. <…> Осень подходит. Это любимое мое время <…> пора моих литературных трудов настает - а я должен хлопотать о приданом да о свадьбе, которую сыграем бог весть когда. Все это не очень утешно» . Ю.М. Лотман поясняет эти строки: «Пушкин хотел венчаться без приданого, но тщеславная мать Натальи Николаевны не могла этого допустить, и Пушкину пришлось самому доставать деньги на приданое, которое он якобы получал за невестой» .
В стихотворении «К Вульфу» происходит окончательное изменение авторского тона с несерьезного на возвышенный: в нем будет выдержан весь финальный текст «Зимняя ночь». Явный переход в высокий регистр в финале цикла позволяет авторскому взгляду уйти от изображения конкретных ситуаций пушкинской жизни и увидеть Пушкина во вселенских масштабах: на высоте бессмертия. Закольцовывающий стихотворение образ светильника заставляет сравнивать первую и последнюю строфы, и тем разительнее выглядит контраст между «непротопленными комнатами» в экспозиции и «синклитом богов всесильных» в коде. И инверсия, и архаичная образность («синклит», «Пегас») «превращают» мерзнущего и занятого повседневными заботами Пушкина в гениального поэта. Для того Плисецкий использует пушкинскую лексику ? «синклит» встречается в писавшемся в Михайловском «Борисе Годунове»: «…А с ним синклит, бояре, / Да сонм дворян…»; «Пегас» довольно частотный в его поэзии образ, обыгрывавшийся, к примеру, в послании к Н.М. Языкову: «Пегас иную Иппокрену / Копытом вышиб пред тобой». Всесильные боги, спящие в небесах, восходят к «Скупому рыцарю»: «Усните здесь сном силы и покоя, / Как боги спят в глубоких небесах», ? говорит Барон своим золотым монетам, своему богатству.В «Зимней ночи» ? в финале цикла - непреклонность жребия звучит как приговор:
Уехал Пущин. О судьбы не спас.
Нетерпеливо грыз узду Пегас.
Спал в небесах синклит богов всесильных.
А на земле, в Святых Горах, светильник
Светил всю ночь, покуда не погас.
По всей логике цикла Плисецкого и мифологии, прочно укрепившейся в 1960-е годы, судьба поэта трагична, но высока и значительна: это и честь, и обещание грядущего бессмертия, по Пастернаку - бытия в заложниках у вечности.
2.3 Леонид Губанов
В 1965 году на литературной сцене появился СМОГ (Самое Молодое Общество Гениев, поэтическим девизом которого были «Смелость, Мысль, Образ, Глубина») - неофициальное объединение поэтов, организованное Владимиром Алейниковым и Леонидом Губановым (1946-1983). Просуществовав всего год, дерзкое Общество, успевшее выпустить свой манифест и несколько самиздатовских сборников, распалось; разумеется, при горячем содействии властей. СМОГ оказал огромное влияние на судьбу и убеждения одного из своих создателей - Леонида Губанова. В качестве наказания за нонконформистскую деятельность СМОГистов, а также, вероятно, за публикации в заграничных журналах самиздата (в основном, в «Гранях»), Губанов подвергался разного рода репрессиям, вплоть до принудительного лечения в психиатрической клинике. СМОГисты, по свидетельству участника объединения поэта Юрия Кублановского, считали себя «поколением, сменившим поэтов “оттепели”». Тем не менее, пушкинский миф в творчестве Губанова невозможен без «оттепельного» взгляда на Пушкина как напоэта-гения, ставшего жертвой общества. Опала, которой подвергся Губанов, как нельзя лучше встраивалась в его жизнетворческую схему, прямо ориентированную на Пушкина (репутация «повесы», бунтарство в стихах и в жизни, преследования со стороны властей, смерть в 37 лет), и одновременно легитимизировала его включенность в ряд гениев.
Единственным текстом Губанова, допущенным в советскую печать, было небольшое стихотворение «Художник» (1964), которое вызвало целый поток критики. Например, в журнале «Крокодил» «ученика 9-го класса Леню Губанова» пожурили за излишне самоуверенную и трагическую позу сравнением с «вычурнейшим из вычурных эгофутуристов» Игорем Северяниным . Уже в 17 лет Губанов определил для себя жизненную программу: «Холст 37 на 37. / Такого же размера рамка. / Мы умираем не от рака / И не от старости совсем» . Губанов редуцирует пушкинский миф до двух его опорных точек - изгнания (ссылок) и смерти, которую он воспринимает как высший и чуть ли не единственный достойный внимания факт биографии Пушкина как первого поэта и всех остальных поэтов вслед за ним. Здесь нет иерархии; как раз наоборот: поразительное единство поэтической судьбы. В отличие от поэтов «оттепели», для которых актуальна мифологема о противостоянии поэта и власти (непринципиально, царской или советской), создатель СМОГа винит в смерти Поэта не пороки отдельных правителей, а некую высшую предопределенность, ориентируясь на крепко укорененную в литературной традиции идею фатальности судьбы гения в России. Показательно, что затрагиваемая во множестве текстов смерть Пушкина почти никогда не именуется дуэлью, чаще это расстрел (со всеми прилагающимися репрессивными коннотациями ХХ века): «За всех любимых, на снегу расстрелянных»; «Нас стреляют, мы - ликуем! / Распинают, мы - поём!»; «Россия иль Расея, / алмаз или агат... / Прости, что не расстрелян / и до сих пор не гад!». В поле зрения Губанова вероятно присутствовал текст В.К. Кюхельбекера 1845 года, повлиявшего на всю последующую традицию стихов об обреченности русского поэта: «Горька судьба поэтов всех племен; / Тяжеле всех судьба казнит Россию» . Ожидаемо появляющийся у Кюхельбекера Пушкин показан не жертвой власти: «Рука любезников презренных / Шлет пулю их священному челу». Кюхельбекер продолжает список убиенных гениев, первый вариант которого составил А.И. Герцен в книге «О развитии революционных идей в России». «В течение второй половины XIX века смерть российских поэтов <…> получила именно герценовское значение», ? пишет М.О. Чудакова, ? «В начале нового века этот “списочный” подход к российским литераторам и их биографиям стал общим местом публицистики», а «оттепель разморозила “список Герцена”, и он ожил». Поэт из другого поколения, младшего по отношению к «шестидесятникам», Губанов, избирая «списочный» подход к истории русской литературы, не единожды упражняется в составлении поэтических мартирологов, место Пушкина в которых - константно:
...Подобные документы
А.С. Пушкин - "солнце русской поэзии", её великое начало и совершенное выражение. Философское осмысление ведущих и общезначимых для всего человечества проблем в лирике двадцатых годов и в стихах Пушкина более позднего периода, анализ произведений.
сочинение [13,1 K], добавлен 21.09.2010Общая характеристика "Золотого века" русской поэзии; главные достижения гениальных творцов XIX века. Ознакомление с творческой деятельностью основных представителей данного периода - Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Грибоедова, Дельвига и Вяземского.
реферат [1,2 M], добавлен 11.07.2011Место поэзии Пушкина в молодежной субкультуре. Нравы дворянской молодежи начала ХIХ в. и их влияние на формирование взглядов Пушкина на любовь. Адресаты и язык любовной поэзии Пушкина. Сочетание феноменального и ноуменального в пушкинском творчестве.
научная работа [44,6 K], добавлен 21.01.2012Определение места и значения фантастических мотивов в цикле романтических произведений первой трети XIX века. Изучение романтического периода в творчестве Пушкина, Жуковского, Кюхельбекера, приемов контраста как средства изображения романтических героев.
дипломная работа [96,9 K], добавлен 18.07.2011Художественное осмысление образа Наполеона Бонапарта в поэзии Жуковского и Пушкина. Изучение романтической трактовки образа французского полководца в лирических произведениях М.Ю. Лермонтова "Святая Елена", "Воздушных корабль", "Последнее новоселье".
реферат [52,7 K], добавлен 23.03.2010Обзор взаимоотношения русской поэзии и фольклора. Изучение произведений А.С. Пушкина с точки зрения воплощения фольклорных традиций в его лирике. Анализ связи стихотворений поэта с народными песнями. Знакомство с лирикой А.С. Пушкина в детском саду.
курсовая работа [46,0 K], добавлен 22.09.2013Полная биография поэта 60-х годов Андрея Андреевича Вознесенского. Общая характеристика поэзии периода "оттепели". Анализ убеждённых интернационалистов и сторонников мира без границ. Сущность важных особенностей поэтики. Проблемы ранней поэзии писателя.
курсовая работа [38,7 K], добавлен 03.04.2015Лирический герой и авторская позиция в литературоведении, особенности их разграничения. Эпос и лирика: сопоставление принципов. Приемы воплощения и способы выражения авторской позиции. Специфика лирического героя и автора в поэзии Пушкина и Некрасова.
дипломная работа [156,0 K], добавлен 23.09.2012Основные факты биографии Константина Николаевича Батюшкова (1787-1855) - предшественника А.С. Пушкина, поэта раннего русского романтизма, родоначальника новой "современной" русской поэзии. Аникреонтические и эпикурейские мотивы в творчестве поэта.
презентация [2,3 M], добавлен 05.09.2013Основные черты русской поэзии периода Серебряного века. Символизм в русской художественной культуре и литературе. Подъем гуманитарных наук, литературы, театрального искусства в конце XIX—начале XX вв. Значение эпохи Серебряного века для русской культуры.
презентация [673,6 K], добавлен 26.02.2011Александр Сергеевич Пушкин — один из ярчайших поэтов "золотого века". Мир пушкинской поэзии: темы любви и дружбы, проблемы свободы и назначения поэта, философская лирика. Периоды жизни и характеристика творчества Пушкина, мировое значение его имени.
реферат [29,2 K], добавлен 24.04.2009Лицей - колыбель юной поэзии Пушкина. Важная роль в судьбе Пушкина его лицейских друзей, с помощью которых Пушкин стал таким великим поэтом. Судьбы друзей-лицеистов поета: Дельвига А.А., Кюхельбекера В.К., Пущина И.И., Данзаса К.К., Матюшкина Ф.Ф..
реферат [28,7 K], добавлен 14.01.2008Хроника семьи М. Цветаевой в воспоминаниях современников. Характеристика семейного уклада, значение матери и отца в формировании бытового и духовного уклада жизни. Влияние поэзии Пушкина на цветаевское видение вещей. Семейная тема в поэзии М. Цветаевой.
дипломная работа [88,2 K], добавлен 29.04.2011Ощущение "радостной свободы" в творчестве А.С. Пушкина в период Михайловской ссылки. Шпионство отца за сыном. Жизнь поэта в Михайловском после отъезда семьи. Рождение поэзии во время прогулок. Источник всяческого богатырства - родная земля, простой народ.
реферат [62,3 K], добавлен 02.03.2012Тематический анализ рок-поэзии, критерии отбора текстов. Развитие тематических традиций русского рока в 1980-е гг., социокультурная специфика "перестройки". Новые реалии и особенности реализации базовой тематики русской рок-поэзии в 1990-2000-е гг.
дипломная работа [289,3 K], добавлен 03.12.2013Особенности жанра рок-поэзии. Главные черты текста рок-композиции. Особенности рок-поэзии на примере творчества Ю. Шевчука. Пушкинская тема Петербурга. "Осень" как один из немногих образцов пейзажной лирики Пушкина. Тема Родины в текстах Ю. Шевчука.
контрольная работа [29,6 K], добавлен 20.12.2010Художественно-стилевые особенности в современной русской поэзии. Пример ироничного вложения нового содержания в старый традиционный стиль сонета на примере стихов Кибирова, черты постмодернизма в поэзии. Язык и его элементы в поэтическом мире Лосева.
курсовая работа [42,1 K], добавлен 16.01.2011Содержание понятия "рифма" в русском стихосложении. Деграмматизация как заметное и общее явление в эволюции русской рифмы начала ХХ в. Основные виды рифм. Особенности стихотворной рифмы в творчестве А.С. Пушкина. Специфика рифм в поэзии В. Маяковского.
контрольная работа [31,9 K], добавлен 22.04.2011Традиции поэтов русской классической школы XIX века в поэзии Анны Ахматовой. Сравнение с поэзией Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, с прозой Достоевского, Гоголя и Толстого. Тема Петербурга, родины, любви, поэта и поэзии в творчестве Ахматовой.
дипломная работа [135,6 K], добавлен 23.05.2009Серебряный век - период расцвета русской поэзии в начале XX в. Вопрос о хронологических рамках этого явления. Основные направления в поэзии Серебряного века и их характеристика. Творчество русских поэтов - представителей символизма, акмеизма и футуризма.
презентация [416,9 K], добавлен 28.04.2013