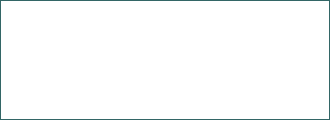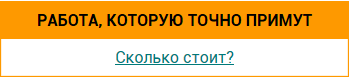Дионисийское тело в повседневной культуре серебряного века: танцевальность и эротизм, медиумизм и патология
Характеристика дионисийских телесных практик в культуре русской художественной интеллигенции рубежа XIX-ХХ веков. Особенности основных форм реализации дионисийских соматических практик в повседневном поведении художественной богемы Серебряного века.
| Рубрика | Культура и искусство |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 25.10.2018 |
| Размер файла | 26,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Дионисийское тело в повседневной культуре серебряного века: танцевальность и эротизм, медиумизм и патология
Антон Иванов
В статье рассматриваются дионисийские телесные практики в культуре русской художественной интеллигенции рубежа XIX-ХХ веков. Исследованы корреляции между эстетической теорией дионисизма Вяч. Иванова и мироощущением эпохи, ориентированным на трансгрессивные практики измененного сознания и потерю или смену личностной идентичности. Театральность, танцевальность, эстетизированный эротизм, медиумизм и телесная конвульсия рассмотрены как формы реализации дионисийских соматических практик в повседневном поведении художественной богемы Серебряного века.
Ключевые слова и фразы: телесность; телесные практики; культура повседневности; дионисийское; трансгрессия; личностная идентичность; измененные состояния сознания; медиумизм; эротизм; телесная патология.
Не теряющее своей актуальности изучение культуры Серебряного века предполагает рассмотрение ее как целостного явления во взаимосвязи художественно-эстетических, религиозных, социальных, политических, а также бытовых аспектов. Не претендуя на такой всеохватный анализ, рассмотрим соматический аспект культуры рубежа ХIХ-ХХ веков в его связи с духовно-теоретическими исканиями эпохи, в частности, с популярным для творческой интеллигенции Серебряного века мифом о Дионисе.
Вячеслав Иванович Иванов (1866-1949 гг.), будучи одним из центральных исследователей и апологетов дионисизма, стал в среде младосимволистов выразителем смутных ощущений, до него не обретавших стройного концептуального оформления. Столь убедительная для современников концепция дионисийской религии не могла являться предметом только академического интереса и отвечала существенным духовным потребностям художественной интеллигенции.
Прежде чем перейти к анализу повседневных дионисийских соматических практик, кратко изложим основные моменты созданной Вяч. Ивановым концепции дионисизма. Дионисийский экстаз, как считает мыслитель, дает возможность человеку обрести потерянную связь с космическим универсумом, найти в субъекте «общее начало» с внесубъективным, с «не-Я». Приобщение к этой внесубъективности предполагает разрушение границ личности. В контексте нашего исследования принципиально важен именно этот отказ от личностной идентичности. Популярность и актуальность этой идеи для художественной интеллигенции эпохи демонстрируют психологическую готовность или предрасположенность к практикам измененного сознания, которые в мифопоэтическом дискурсе эпохи обозначались, как правило, терминами «одержимость», «медиумизм», «спиритизм», «пифийство» и т.д. Подобные практики непосредственно связаны с существенными аберрациями телесного поведения и трансгрессивным экстатическим опытом.
Миф об Эросе, ставший у философа дополнением к мифу о Дионисе, придает дионисийскому экстазу свойства полового диморфизма и психологического эффекта расщепления сознания. В оргиастическом исступлении личность расщепляется на женскую и мужскую половины. Переживания экстатического характера есть переживания женственной части «Я» - «Психеи», умерщвляющей сознательное мужское начало и ищущей «своего Эроса» на экстатической периферии сознания, в бессознательном, в котором душа человека наполняется новой, уже мистической идентичностью.
Каковы же взаимоотношения теоретических конструкций Вяч. Иванова и повседневной жизни эпохи? Насколько далек или близок к повседневной жизни культуры Серебряного века эстетизированный дионисизм поэта? В решении этих вопросов мы будем опираться на материал мемуарной прозы начала ХХ века. дионисийский телесный интеллигенция культура
Весь спектр соматических практик художественной интеллигенции Серебряного века от гигиенических, спортивных до сексуальных и пищевых в рамках данного исследования нам раскрыть, безусловно, не удастся. Тому есть ряд объективных причин. Во-первых, в силу культурных традиций определенные стороны повседневного приватного существования не могли стать объектом мемуарного и официального дискурса. Исследовательница Т. Цивьян, например, пишет об «апофатизме» тела в русской культуре: «Налагается запрет на любые естественные «телесные» проявления, одористические, акустические... их как бы не существует, и само тело соответственно становится «бестелесным» [12, с. 38]. При этом апофатичность тела отнюдь не означает пренебрежение им, а скорее, замалчивание бытового, профанного в различных текстах культуры.
С этим связана вторая причина трудности выявления всей совокупности телесных практик - это характерное для модернистской богемы начала ХХ века общее пренебрежение типовыми ординарными подробностями быта в угоду необычным, оригинальным деталям, смыкающимися с праздничными, художественными и религиозно-мистическими аспектами культуры. В этом смысле речь пойдет не столько о повседневности как рутинных социальных практиках, сколько о деятельности, тяготеющей к семантике праздника, ритуала, мистерии.
В-третьих, для выявления форм дионисизма в повседневности нецелесообразно включать в поле исследования весь корпус поведенческих практик. Учитывая трансгрессивный характер дионисийских практик, мы сконцентрировали внимание на фактах, выделяющихся экстраординарным или антинормативным характером для своего времени.
В-четвертых, существует общая методологическая проблема изучения тела в тексте. В рамках любой гуманитарной традиции, изучающей телесность в культурах прошлых эпох, исследователь имеет дело не с телом как таковым, а с текстом о теле, с языковым фактом. Мы исследуем сформированный в среде богемы дискурс тела, совокупность эпистемологических конструкций, зафиксированных в литературе и имеющих своим предметом телесные действия конкретных индивидов.
Таким образом, при отборе фактов мы сконцентрировали внимание на следующих формах телесного поведения и телесной репрезентации в текстах эпохи: описание внешности, моторики (жестов, специфики движений), одежды, релаксационных действий, аномального или девиантного поведения (к таковому могут быть отнесены, в частности, популярные в модернистских кругах практики измененного сознания: спиритизм, медиумизм, употребление наркотиков и т.д.).
Преодоление «быта» осуществлялось в двух взаимосвязанных направлениях: театрально-постановочном и спонтанно-деструктивном. Анализ мемуарной литературы показывает, что в повседневных практиках Вяч. Иванова больше представлены формы первого регистра, чем второго.
Особенности внешности Вяч. Иванова современниками интерпретировались в соответствии с его статусом в среде художественной интеллигенции. Многое в его внешности подчеркивало положение «поэтического мэтра». В составе элементов, выстраивающих телесный образ поэтического предводителя, современниками выделялись «золотистые кудри» [4, с. 323; 10, с. 472] - «золотистый ореол… пушистых, длинных до плеч волос» [4. с. 117], специфические жесты и походка. Его манеру движений С. Маковский определил как «изысканно предупредительную, граничащую с кокетством» [Там же].
Следующий уровень коннотаций в мемуарном образе Вяч. Иванова - дионисийский жрец и «мистагог» [Там же, с. 345]. В данном контексте упоминались такие подходящие, но не уникальные соматические модусы как специфические «ритмические телодвижения, напоминавшие танец» [13, с. 472], длинные волосы и бородка. Образ жреца Диониса приобретал несколько экстатически-эротические акценты при упоминании «сладострастного подбородка» [4, с. 370], румянца на щеках поэта («воспаленный цвет кожи» [Там же, с. 323], «красноватое» [Там же, с. 349], «красное лоснящееся лицо» [Там же, с. 319]).
Примечателен акцент на танцевальных телодвижениях в поведении Вяч. Иванова, так соответствующих его религиозно-эстетическим взглядам. Георгий Чулков описывал оргиастический быт супружеской четы Ивановых в «башне» на Таврической: «В башне, где жил мой учитель-поэт все давно сошли с ума. В его глазах, помутившихся от слепой страсти, все качалось в безумном ритме, и сам он с белокурыми развивающимися волосами походил на религиозного плясуна древности и вечно танцевал, простирая руки» [13, с. 594].
Так отдельные телесные особенности Вяч. Иванова встраиваются в его литературный образ, явно детерминированный религиозно-эстетическими концепциями эпохи. Тело поэта включается в мифопоэтический дискурс богемной среды, становится носителем знаков этого дискурса. Общей чертой всякой мемуарной прозы Серебряного века стало подобное тесное сплетение фрагментов повседневной жизни и художественного вымысла, реальных фактов и их символических коннотаций. Нет оснований говорить о «ложности» таких художественных преувеличений, скорее, они демонстрируют специфические черты перцептуальной модели действительности в культуре рубежа. Ясный образ социальной реальности размывался, прежние позитивистско-прагматические и политико-экономические нарративы теряли популярность в среде интеллигенции. Мировосприятие эпохи рубежа ориентировалось на выявление неясных мистико-религиозных и мифологических значений наблюдаемого. Весьма убедительно это выразил в своих воспоминаниях В. Ходасевич: «Нам все представлялось двусмысленным и двузначащим, очертания предметов казались шаткими. Действительность, распыляясь в сознании, становилось сквозной... Явления становились видениями. Каждое событие, сверх явного смысла, еще обретало второй, который надо было расшифровать. Он нелегко нам давался, но мы знали, что именно он и есть настоящий» [11, с. 186].
Декларируемый Вяч. Ивановым религиозный экстаз дионисийских мистерий «разыгрывался» на литературно-художественных вечерах. Широко известна, описанная современниками (Н. Бердяевым, А. Белым, З. Гиппиус), попытка смоделировать на квартире у Н. Минского дионисийскую мистерию в хороводе, сопровождаемом «вакхическими песнями». Как вспоминал Бердяев, «вдохновителем был Вяч. Иванов … участвовали выдающиеся писатели с известными именами - В. Розанов, Вяч. Иванов, Н. Минский, Ф. Сологуб и другие» [2, с. 157]. З. Гиппиус писала, что участники хоровода были облачены в «хламиды и венки» [6, с. 127]. В разыгрываемое действо был также введен сюжет «сопричастия» (выражение Вяч. Иванова - А. И.) [Там же, с. 176] через кровь. С этой целью «неизвестной женщине» (по другим источникам «невинной еврейке» [9, с. 107]) прокололи булавкой руку, разбавив кровь в вине. Это событие, безусловно, демонстрирует театрально-постановочный механизм мифологизации жизни.
«Ритмические телодвижения, напоминавшие танец» в мемуарной прозе начала ХХ века были характерной чертой поведения многих героев богемной среды. Достаточно вспомнить «миф танцующего Андрея Белого», «радения» и танцевальные пародии Эллиса (Л. Кобылинского), а также характерную для 1900-1910-х годов всеобщую моду на античные пляски. Приведем некоторые свидетельства о масштабах этого увлечения: «Молодые девицы в литературном кружке стали одеваться в нечто вроде туник. Часто эти туники, из-за недостатка ли средств, а иногда из-за отсутствия вкуса, были очень курьезны... М. Волошин стал носить греческую тунику и сандалии на босу ногу, а свою пышную рыжеватую шевелюру сдерживать золотым обручем» [4, с. 421]; «А. А. Бобринский основал школу, в которой по изображениям на греческих вазах восстановил пляски и религиозные ритуалы Эллады... Когда он смертельно заболел, он вдруг стал просить меня (Л. Рындину) тут же, в его комнате, проделать погребальный ритуал... Еле сдерживая слезы, я воспроизвела ритуал в хитоне и пеллуме» [Там же, с. 421-422]. В воспоминаниях современников рядом с Вяч. Ивановым в 1900-х годах всегда упоминается его первая жена Л. Зиновьева-Аннибал. При своей бросающейся в глаза «тяжеловесности» она также вместе с мужем участвовала в мифологизации жизни, исполняя роль вакханки. В домашней обстановке, как писал Г. Чулков, она носила исключительно «хитоны» - «античные хламиды» [13, с. 472], любила «по античному образцу» возлежать на коврах и подушках.
За этой внешней карнавализацией жизни скрываются процессы существенной трансформации в мироощущении и культурной идентичности. Реставрация дионисийской телесности порождала стремление модернисткой интеллигенции к пограничным, трансгрессивным формам психофизического опыта. Связано это, по нашему мнению, с процессами дезинтеграции устоявшихся форм личностной идентичности и с актуализацией иррефлективного уровня психики. Это реализовалось, как минимум, в двух особенностях повседневной практики: в эстетизированном эротизме (или мифологизированной сексуальности) и в практиках измененного сознания, тяготеющих к оккультно-магической тематике.
Сексуальность в культуре Серебряного века представляла собой не столько приватную практику биологического и социального воспроизводства, сколько религиозно-эстетический концепт, преобразующий отношения полов до уровня космологического мифа. Мистицизм русских символистов имел ярко выраженный эротический, «женственный» характер. Вяч. Иванов очень точно выразил это в своем мифе о блуждающей в поисках жениха-жертвы Психее как метафоре души человека. Это позволило многим деятелям культуры говорить об эротико-магической атмосфере эпохи, «явно нездоровой, исполненной ядовитых соблазнов утончения русской интеллигентской духовности» [10, с. 94], о «тонких ядах какой-то камерной хлыстовщины» [Там же, с. 95] (Ф. Степун), о «повсюду разлитой нездоровой мистической чувственности» [2, с. 142] и «космическом прельщении» [Там же, с. 163] (Н. Бердяев).
Преобладание в культуре женственного магического эротизма над «мужественным самосозидающим духом» [10, с. 90] сопрягается с предрасположенностью к потере личностной целостности, к «медиумизму» как одной из важнейших характеристик мироощущения начала ХХ века. С женственным эротизмом связано не только иррефлективное желание потери себя, но и страх этой потери. А. Блок, по мнению современников, причастный к подобным опытам, в 1912 году выразил данную фобию: «Реальности нам надо, страшнее мистики нет ничего на свете» [Там же, с. 95].
Потеря идентичности может сопровождаться существенным искажением и сменой привычных образцов телесного поведения либо частичной или полной утратой контроля над телесным бессознательным. «Медиумизм» как понятие, смежное с категорией одержимости, объединяет широкий круг подобных поведенческих стратегий и психологических особенностей культуры рубежа. Прежде всего, это игра образов-масок, которой увлекались символисты; это игра в умножение идентичностей, в двойников, в литературные мистификации, в мифотворчество, в большинстве своем театрализованное, но в некоторых случаях чреватое расщеплением сознания. Приведем следующие симптоматичные примеры: Б. Бугаев (А. Белый), Л. Кобылинский (Эллис), С. Киссин (Муни).
А. Белый в мемуарной литературе в соматическом аспекте предстает своеобразным «миметическим» организмом. В силу сверхчувствительного психофизиологического склада он постоянно «одержим», «захвачен» внешними воздействиями. Б. Зайцев писал: «вообще всегда им что-то владело, а не он владел» [5, с. 28]. Степун так описывал власть слова над Белым: «сначала ища слов, в конце же всецело одержимый словами, обуреваемый их самостоятельной жизнью» [Там же, с. 176]. Эта одержимость придавала его телодвижениям, по воспоминаниям современников, сходство с движениями марионетки: «Он взмахивает руками,… лицо его передергивается широкой сияющей улыбкой, будто он дернул себя за невидимую ниточку, и - дерг - передерг - сразу пришел в движение» [Там же, с. 217].
Миметическое тело непрестанно испытывает ряд метаморфоз, присваивая себе поставляемые извне смыслы, которые сменяются новыми смыслами. Белый, живший, по словам Бердяева, «страстным желанием полностью избавиться от своей индивидуальности», в конце 1910-х годов так комментирует свою внутреннюю «медиумную пустоту»: «Строю себе и теперь гримасы… Ведь гримаса тоже маска. Я всегда в маске!.. Даже наедине. Боюсь увидеть свое настоящее лицо» [Там же, с. 221].
Эллис также был известен своими миметическими способностями, которыми, в отличие от Белого, умел эффектно пользоваться. Как вспоминали А. Белый и Н. Валентинов, своими телодвижениями он умел буквально «магнетизировать» публику, «заражать показом жеста» [1, с. 42]. Это проявилось в специфических плясках, которые Белый называл «радениями». Соматическое перевоплощение в Другого производило впечатление «устрашающей» достоверности на наблюдателей. Н. Валентинов детально описывает телесную «трансформацию» Эллиса в журналиста Алексеева: «У Эллиса не было ни малейшего сходства с Алексеевым, и вдруг он стал на него поразительно похож. Щеки отвисли, глаза стали близорукими, губы щелкающими, плечи подняты, живот выпятился, руки стали короче, и тем же голосом, с теми же интонациями, как Алексеев, не подавая виду, что его копирует, Эллис начал закатывать длиннейшие латинские поговорки… Мне стало не по себе… Один на другого совсем не был похож, и, несмотря на это, против Алексеева сидел другой Алексеев, какой-то астральный призрак его, какая-то сущность его, перебросившаяся в Эллиса» [3, с. 246]. Мастерское подражание с сохранением исходной телесной «непохожести» в этом отрывке парадоксально сочетается с впечатлением полной метаморфозы отдельных соматических элементов, вплоть до укороченных рук. Примечательны комментарии Эллиса после подобных сеансов: «У него в течение нескольких дней болит голова, он чувствует, что в него «вошел другой человек» и его «изнутри распирает» [Там же]. «Игра в одержимость» сочетается у Эллиса с явным желанием преодоления границ субъективного опыта и расширения, если не умножения личностных идентичностей.
Такое театрализованное поведение осуществляется на грани психопатологии. С. В. Киссин, не оставивший заметного следа в литературе, по мнению Ходасевича, «своим обликом выражал нечто глубоко характерное для того времени... Он был симптом, а не тип» [11, с. 185]. Симптоматичным было неприятие окружающей действительности («все просто реальное было ему нестерпимо» [Там же, с. 190]), атрофия деятельностного начала («все, за что брался Муни, в конце концов, не удавалось и причиняло боль» [Там же]) и итоговый отказ от реальности самого себя: «Меня, в сущности, нет... Моя мечта - это воплотиться, но чтобы окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху» [Там же]. Учитывая дисбаланс между неспособностью действовать и колеблющимся восприятием своего «Я», Муни пытается найти равновесие, изобретая в одном из своих рассказов прямое, не перегруженное самосознанием, но одаренное успокаивающей плотью, второе «Я». Вслед за литературным героем, Муни в начале 1908 года «довоплощается» в другого человека, А. А. Беклемишева, меняя свое телесное поведение и мышление: «Месяца три Муни не был похож на себя, иначе ходил, говорил, одевался, изменил голос и сами мысли» [Там же]. Дальше все происходило по литературной логике двойного существования, вплоть до бунтов против мнимого «Я».
Тело, став объектом символического театра масок и двойников, способно реагировать на своеобразную эстетическую репрессию аффектом, конвульсией, неприглядной соматической косностью или, наоборот, хаотичностью и непредсказуемостью. Это иное выражение утраты личностной идентичности в культуре, реализующееся в прорывах патологической телесной спонтанности. В мемуарной прозе Серебряного века такие эффекты часто упоминались в контексте употребления средств, изменяющих сознание (алкоголя и наркотических веществ). Морфий, его производные и иные психотропные вещества, многие бывшие в то время в легальном распространении в качестве медицинских средств, составляли особый, часто замалчиваемый пласт повседневной культуры художественной интеллигенции. Начиная с «Исповеди англичанина - курителя опиума» Де Куинси, подобные вещества становятся устойчивым элементом романтического дискурса. Осознавая, что данная тема в контексте культуры Серебряного века может стать предметом отдельного культурологического исследования, приведем в качестве примера только один факт аберрации телесного поведения в результате приема наркотиков из воспоминаний о Валерии Брюсове.
Несмотря на эпатажный демонизм и практику спиритических сеансов Брюсова, многие современники считали его поведенческий образ «литературной маской» [13, с. 478], скрывающей за собой очень трезвую, дисциплинированную и деловитую натуру. Тем контрастнее выглядят упоминания о наркотической зависимости поэта. Большинство мемуаристов упоминают, что пагубное пристрастие стало замечаться после любовных отношений с Ниной Петровской, также пристрастившейся к алкоголю, морфию и к самоубийственным эскападам: «Еще с 1908 года, кажется, он был морфинистом. Старался от этого отделаться, но не мог» [11, с. 206]. Созданный Брюсовым собственный образ «демонического декадента» с элементами несколько театрализованного аристократизма существенно искажался в состояниях после употребления психотропных веществ. З. Гиппиус так обрисовывает несвойственную болезненную соматику поэта: «Вот он сидит за столом. Без перерыва курит… (это Брюсов-то!) и руки с неопрятными ногтями (это у Брюсова-то!) так трясутся, что он сыплет пепел на скатерть, в стакан с чаем, потом сдергивает угол скатерти, потом сам сдергивается с места и начинает беспорядочно шагать по узенькой столовой» [6, с. 60]. Ходасевич вспоминал, что во время беседы он периодически впадал в состояние оцепенения, почти сна. В описании внешности статичный образ «поэтического мэтра» и джентльмена сменился изображением болезненной метаморфозы тела: «Лицо похудело и потемнело, черные глаза тусклы - а то вдруг страшно блеснут во впадинах. В бородке целые седые полосы, да и голова с белым отсветом» [Там же].
В некоторых мемуарных текстах экстатическая конвульсия предстает обратной и пугающей стороной желаемого всенародного единения и соборности. Весьма показателен случай, засвидетельствованный поэтом Георгием Ивановым в своих воспоминаниях и произошедший с эксцентричным композитором Н. К. Цыбульским, игравшим на рояле «внеслуховую музыку» перед глухонемыми. Показательна не столько типично авангардистская курьезность ситуации, сколько реакция глухонемых, представленная мемуаристом в тревожном ключе, пародирующем идеи «всенародной дионисийской симфонии» Вяч. Иванова: «И вдруг… в зале послышалось какое-то сопение, шорох, гул. Глухонемые слушатели начали подпевать. Сначала робко, тихо, потом все сильней. Нестройный шум, похожий на ворчание, все возрастал, делаясь все более нестройным. Уже не ворчание - лай, блеяние, крик, вой, хрипение... На всех лицах выражение не то блаженства, не то ужаса. Одни орали, выделывали ртом странные движения, некоторые, опрокинувшись, обхватывали голову руками, другие раскачивались всем телом, третьи размахивали руками, точно дирижируя» [8, с. 38]. Картина экстатического восторга глухонемых предельно символична: она инверсированно воспроизводит и музыкальный код культуры эпохи («слушайте музыку революции»), и мифы о народной религиозности (хлыстовские радения), и дионисийскую эстетику Вяч. Иванова, трансформируя их в бессмысленную патологию телесного бессознательного и некой экстатической внечеловечности.
В телесной патологии или конвульсии как еще одном соматическом атрибуте пограничного мироощущения эпохи реализуется иррефлективная дионисийская телесность, нейтрализующая власть и контроль со стороны субъекта или эстетического дискурса. Она содержит негативные, апофатические значения, ассоциируясь с больным, кощунственным, нечеловеческим, бессмысленным. С подобными поведенческими проявлениями связана еще одна фобия культуры Серебряного века, прекрасно сформулированная З. Гиппиус: «От зверя - потенция движения вверх. А тут, в истории, уже поднявшись вверх - волна упадет от человека в кого-то, вернее, во что-то слепое, глухое, немое, только мычащее и смердящее...» [6, с. 95].
Итак, в концепции дионисийского экстаза Вяч. Иванов, по существу, сформулировал сценарий всей культуры Серебряного века, выраженный в дезинтеграции сознания, нейтрализации рационального мужского начала экстатическим женским и в тяготении к трансгрессивному психофизическому опыту. Потеря устоявшихся форм личностной идентичности в культуре рубежа ХIХ-ХХ веков актуализировала иррефлективные уровни психики, соматически реализовавшиеся в эротизме, танцевальности, медиумизме, практиках измененного сознания и экстатической телесной конвульсии. Дионисийское тело в культуре Серебряного века существовало на этой тонкой грани между предельно утонченной эстетической игрой и бессознательной телесной патологией.
В контексте финала эпохи Серебряного века и последующего развития русской культуры важен социально-политический аспект теории и практики дионисизма с его центробежным стремлением за грань индивидуального сознания. Мотив «искупительной жертвы», самозаклания личности как залог ее воскресения во всеобщем предвосхищает особое отношение интеллигенции к революционным событиям и, возможно, к условиям собственного существования в авторитарном советском обществе. К данному спектру социокультурных тенденций эпохи относится свойственное модернисткой среде ожидание революции как самозаклания интеллигенции (призыв А. Блока «слушать музыку революции» с ее «контрапунктами» и «диссонансами»). Дионисийская риторика прослеживается и в советской литературе 30-х годов с ее эстетикой «жертвенного самоотречения от субъективности» в пользу наслаждения самодостаточным символическим универсумом «новой жизни».
Список литературы
Белый А. Начало века. М.: Худ. лит., 1990. 687 с.
Бердяев Н. Самопознание: опыт философской автобиографии. М.: Книга, 1991. 448 с.
Валентинов Н. Два года с символистами. М.: XX - Согласие, 2000. 384 с.
Воспоминания о Серебряном веке. М.: Республика, 1993. 559 с.
Воспоминания об Андрее Белом. М.: Республика, 1995. 591 с.
Гиппиус З. Живые лица. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 448 с.
Иванов В. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. 428 с.
Иванов Г. Петербургские зимы. Мемуарная проза. М.: Захаров, 2001. 456 с.
Серебряный век. Мемуары. М.: Известия, 1990. 672 с.
Топоров В. Н. Из истории петербургского аполлинизма: его золотые дни и его крушение. М.: ОГИ, 2004. 264 с.
Ходасевич В. Перед зеркалом. Воспоминания. Портреты современников. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 480 с.
Цивьян Т. Отношение к себе и к своему телу в русской модели мира // Тело в русской культуре: сборник статей / сост. Г. Кабакова, Ф. Конт. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 38-48.
Чулков Г. Годы странствий // Чулков Г. Вальтасарово царство. М.: Республика, 1998. 607 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Силуэт "Серебряного века". Основные черты и разнообразие художественной жизни периода "Серебряного века": символизм, акмеизм, футуризм. Значение Серебряного века для русской культуры. Исторические особенности развития культуры конца XIX–начала XX веков.
реферат [37,6 K], добавлен 25.12.2007Традиционная картина мира России и Китая до ХХ в.: мифологический, религиозный и эстетический аспект. Трансформация традиционной картины мира в художественной культуре в начале XX в. Особенности мироощущения в культуре "Серебряного века" в России.
курсовая работа [73,8 K], добавлен 25.09.2009Социально-экономический и политический фон конца ХІХ - начала ХХ веков. Идейные ориентации "Серебряного века". Анализ музыкальной культуры того времени, обоснование ее места в художественной культуре. Исследование творчества А. Скрябина и С. Рахманинова.
курсовая работа [69,2 K], добавлен 19.10.2012Характеристика и расцвет художественной культуры ХІХ в.: Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой. Особенности литература "золотого" и "серебряного" века. История становления театра в России в ХІХ веке, императорские театры.
реферат [39,0 K], добавлен 07.06.2010Истоки и понятие символизма. Становление художника Серебряного века. Периоды истории русского символизма: хронология развития. Особенности жанровой живописи на рубеже XIX-XX веков. Художественные объединения и артистические колонии в русской живописи.
курсовая работа [36,8 K], добавлен 17.06.2011Интенсивность серебряного века в творческом содержании, поиск новых форм выражения. Основные художественные течения "серебряного века". Появление символизма, акмеизма, футуризма в литературе, кубизма и абстракционизма в живописи, символизма в музыке.
реферат [30,0 K], добавлен 18.03.2010Духовные и художественные истоки Серебряного века. Расцвет культуры Серебряного века. Своеобразие русской живописи конца XIX - начала XX века. Художественные объединения и их роль в развитии живописи. Культура провинции и малых городов.
курсовая работа [41,0 K], добавлен 19.01.2007Характеристика Серебряного века русской культуры, специфика его литературы и музыки, основные мотивы и идеи данных культурных направлений в России. Анализ особенностей творчества А.А. Блока и А.Н. Скрябина как величайших творцов Серебряного века.
курсовая работа [42,7 K], добавлен 30.05.2010История зарождения и развития художественного стиля "модерн" в западноевропейской культуре. Импрессионизм и постимпрессионизм как живописные школы. Модернизм и авангард в искусстве и культуре. Общая характеристика культуры Серебряного века в России.
контрольная работа [40,3 K], добавлен 03.09.2012Конец XIX - начало XX века представляет собой переломную эпоху не только в социально-политической, но и духовной жизни России. Важная черта периода - усиление процесса интеграции России в европейскую и мировую культуру. Модерн в изобразительном искусстве.
контрольная работа [28,1 K], добавлен 09.03.2009Особое место XIX века в культуре нового времени. Изменения в художественной культуре и в духовной жизни европейской цивилизации и общества. Рассмотрение главных тенденций социокультурного развития в науке, технике, политической культуре, религии, морали.
реферат [19,9 K], добавлен 07.03.2010Краткий очерк жизни, личностного и творческого становления великого российского архитектора и художника-графика Серебряного века Лукомского Георгия Крескетьевича. Известнейшие работы мастера, их особенности и место в культуре России начала XX века.
доклад [11,7 K], добавлен 04.05.2009Феномен художественной жизни России в начале XX века. Модернизм в русской культуре. Казимир Малевич до супрематизма. Русский авангард первой трети XX века. Выход идей супрематизма за рамки живописи. Теоретическое и литературное наследие Малевича.
дипломная работа [2,6 M], добавлен 28.12.2016Культура Серебряного века. Архитектура серебряного века. Советский период. Культурная революция. "Оттепель". Архитектура советского периода. О постсоветской архитектуре.
реферат [28,2 K], добавлен 03.09.2003Общая характеристика социальной и культурной сферы России в начале XX века, изменения образа жизни средних слоев и рабочих, обновление внешнего облика города. Особенности русской культуры и искусства "Серебряного века": балет, живопись, театр, музыка.
презентация [5,7 M], добавлен 15.05.2011Основные содержательные элементы духовной культуры. Теория культурно-исторических типов Н. Данилевского. Россия накануне петровских реформ. Роль Петербурга в культуре России. Художественная культура России в XVII-XIX веках, эпоха Серебряного века.
презентация [2,1 M], добавлен 14.05.2013Особенности формирования и своеобразие русской национальной культуры, важнейшие факторы ее становления. Успехи России в области образования, достижения в науке и технике. Романтизм как основное направление в художественной культуре, музыке, живописи.
реферат [39,2 K], добавлен 12.06.2010Особенности развития культуры России в первое десятилетие XX века, которое вошло в историю русской культуры под названием "серебряного века". Тенденции развития науки, литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, балета, театра, кинематографа.
контрольная работа [31,3 K], добавлен 02.12.2010Переход от средневековых религиозных форм духовной жизни к светской культуре и науке в конце XVII вначале XVIII в. в русской культуре. Расцвет русского зодчества. Тематика живописи и скульптуры исследуемого периода, обзор основных авторов и произведений.
реферат [3,1 M], добавлен 12.03.2014Описание российского символизма как сложного и неоднозначного явления в художественной культуре рубежа XIX–XX веков, приобретшего в искусствоведении определение "Серебряный век" и его реализация в живописи, музыке, литературе и театральном искусстве.
курсовая работа [40,3 K], добавлен 09.05.2011