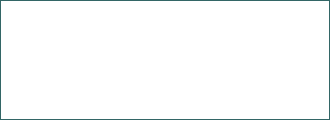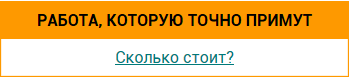Прощание с Герценом
Анализ авторской амбивалентности восприятия Герцена. Оценка, данная Герцену Бердяевым. Анализ творчества и жизни Герцена по свидетельствам и воспоминаниям писателей П.В. Анненкова, А.В. Дружинина. Герцен как идеолог западничества и политический теоретик.
| Рубрика | История и исторические личности |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 07.04.2022 |
| Размер файла | 39,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Прощание с Герценом
В.П. Визгин
В статье автор стремится объяснить амбивалентность своего восприятия Герцена. Ему близка оценка, данная Герцену Бердяевым: «Если и не самый глубокий, то самый блестящий из людей 40-х годов». Ближайшим фоном, на котором он развертывает свой анализ творчества и жизни Герцена, выступают свидетельства и воспоминания писателей (П. В. Анненков, А. В. Дружинин), а также более обширный западный и русский интеллектуальный контекст. Все у Герцена было трагическим: от семейной жизни до жизни идейной. И выдержать этот трагизм, считает автор, Герцену помог его художественный талант, позитивно сказавшийся и на его качествах мыслителя.
С Герценом как идеологом западничества и политическим теоретиком автор решительно расходится, в то же время он не может проститься с ним как с художником.
Ключевые слова: Герцен, Былое и думы, западничество и славянофильство, Европа и Россия, поколение 40-х годов, русский социализм, христианский гуманизм и гуманизм атеистический.
V. P. Vizgin
A FAREWELL TO ALEXANDER HERZEN
Viktor Vizgin explains his ambivalence of perception of Herzen. Nikolay Berdiaev said that “Herzen is a brilliant intellectual of his time of the forties years rather than a profound thinker”, an opinion shared by the author of this paper. Herzen is considered in the wider context of Western and Russian thought and contemporary accounts by Russian writers including P. Annenkov and A. Drujinin. Herzen's family life, in line with his theoretical life, was tragic. Only his literary gift saw him through these ordeals. Viktor Vizgin distances himself from Herzen as an ideologist of Westernism but cannot part with him as a writer.
Keywords: Herzen, My Past and Thoughts, Westernism and Slavophilism, Europe and Russia, generation of forties of XIX century, Russian socialism, Christian humanism and atheistic humanism.
Герцен пристрастился вспоминать свою жизнь со всеми лицами и событиями, в нее входящими, с тех пор, «когда, казалось бы, нечего и вспоминать» [14, c. 386]. Неудивительно поэтому, что «Былое и думы» стали его шедевром. Мемуары П. В. Анненкова [1] привлекли мое внимание к фигуре Герцена. И тогда я снова раскрыл страницы этой удивительной книги. Погружаясь в нее, я набрасывал возникавшие впечатления и мысли.
Не оттого ли гуманизм Европы, отформатированный Просвещением, рухнул, что не был гуманизмом христианским? Ни Павел Анненков, ни Александр Блок, размышлявшие о кризисе гуманизма, понять этого не смогли. (Блок рассматривает «культурную историю XIX века как историю борьбы гуманной цивилизации с духом музыки» [3, с. 110-111]. Нам важно понять место Герцена в этой борьбе. Можно сказать, что оно было двуместным: как художественная натура Герцен улавливал «дух музыки», был чуток к нему и стоящему за ним скрытому единству сил и тенденций, устремленных в будущее культуры, но его философские и тем более социально-политические взгляды воплощали скорее дехристианизированный европейский гуманизм, о крушении которого пишет Блок, чем «дух музыки». Вот эту амбивалентность фигуры Герцена мы и хотим показать.)«Социальный вопрос», опиравшийся на «вопрос экономический», закрыл для них вопрос религиозно-метафизический (главное в XIX столетии, когда этот кризис созревал и стал обнаруживаться, поэт видит так: «Век рас- шибанья лбов о стену / Экономических доктрин» [4, с. 304]). Вот здесь мне хочется сказать об одном условии генезиса русского радикального западничества. Оно зарождается в молодежной среде, студенческой прежде всего, если в центр интересов возникающего кружка попадают социальные и политические вопросы. В других подобных группах, в которых интерес их участников вращается вокруг искусства и науки, философии и религии, как правило, никакого политического радикализма, подобного тому, который увлек Герцена и Петрашевского, не возникает. Герцен ab initio и потому глубоко и прочно был захвачен именно политической и социальной идеей. Круг интересов его близких друзей в Московском университете был изначально политическим и революционным: «Мы, увлеченные тогда политическим блеском Запада, мы, религиозно хранившие свое неверие, открыто отрицавшие церковь...» (Курсив мой. -- В. В.) [10, с. 236]. Политико-социальный утопизм молодого Герцена, как он сам говорит, имел романтико-религиозную подоснову, что было в духе 30-х гг. XIX в. С порога отвергнув самые верхние этажи духовной культуры, не накопив еще жизненного опыта, он политическое устройство России уже «люто ненавидит», а другое, западное, устройство, можно сказать, обожествляет. Только сблизившись с совсем другим кружком, с кругом Станкевича, он сумел расширить зону своих интересов и понять значение философии, искусства и даже отчасти религии для понимания любых «вопросов жизни». Но высокое метафизическое умозрение и глубокое религиозное чувство, не ограничивающееся мимолетной мистической экзальтацией (период «мистической романтики любви» (Флоровский) он пережил в начале сближения с Н. А. Захарьиной, но это было скорее эпизодом, чем глубоким поворотом сознания), -- все это прошло мимо него (понимаю, что такое суждение отчасти вызвано тем, что я перечитывал именно «Былое и думы», а не всего Герцена. Жизнь в его душу поэта-романтика по складу личности влила серьезный заряд реализма, трезвости. Но само их «педалирование» в мемуарах показывает, что романтическая душа их автора никуда не делась). Даже Станкевич не смог повернуть его к этим формирующим глубинную жизнь духа началам культуры.
В силу исходной сфокусированности на политико-социальном измерении реальности Герцен, говоря о славянофилах первой генерации, ошибочно полагает, что самое существенное в их учении кроется в понятии «народность», которое он сам истолковывает социологически (вот это место: «Важность их воззрения, его истина и существенная часть вовсе не в православии и не в исключительной народности, а в тех стихиях русской жизни, которые они открыли под удобрением искусственной цивилизации» [8, c. 374]). Читаю его высказывания на этот счет и не могу не признаться: созданный мной много лет назад образ их автора, увы, далек от реального Герцена. Когда впоследствии кто-то подчеркнуто неодобрительно отзывался о западнических заблуждениях Герцена, то я инстинктивно защищал его и не хотел даже вникать в приводимую аргументацию, хотя в то время сам уже не был западником. Для меня на долгие годы Герцен стал неоспоримо бесценным лицом русской культуры и потому неприкасаемым, пусть его «направление» и перестало мною разделяться. Но вот уже совсем другими и, может быть, «похолодевшими» глазами читая его прекрасные мемуары, я поражаюсь, насколько теперь даже присущие ему живость ума, остроумие и свобода пера и мысли, весь гейневский склад его личности (пусть не во всем, но во многом) отталкивают меня.
Понять, что именно разрыв с многовековой, на православии основанной культурной традицией определил не только возможность, но и необходимость западнического направления русской мысли, Герцен по причинам, о которых я уже сказал, не мог. Для этого он должен был бы стать совсем другим человеком, пусть и романтиком, но романтиком «жуковского» типа, т. е. с глубоким религиозным чувством и метафизической потребностью (правда, период мистической экзальтации, свидетельством которого служит переписка Герцена с его невестой, не позволяет нам утверждать, что в его жизни никогда ничего похожего в этом отношении на Жуковского не было). Но тогда он не был бы Герценом, его бы звали в этом случае по-другому, например, Иваном Васильевичем Киреевским. В знаменитой статье на смерть Константина Аксакова Герцен говорит о людях своего круга: мы «смотрели в разные стороны в то время, как сердце билось одно». Но как раз в разности состояния сердца и был корень раскола мыслящих людей России на западников и славянофилов. В православном благочестии славянофилов Герцен видел только «натянутую набожность» [8, c. 385]. Однако странно считать православную веру Ивана Киреевского или Алексея Хомякова идеологически мотивированным рассудочным самопри- нуждением, своего рода «показухой». Правда, если с самого начала настроить ум человека исключительно на социально-политические «рельсы», то, видимо, так можно думать. Но как при этом обедняется дух, как суживается душа и исчезает поэзия или, если по Блоку, «музыка», которая у Герцена живет и все в нем животворит, но, увы, действует сплошь и рядом в искаженном сатирической установкой виде. Озлобленность, ненависть, ressentiment никогда к духовно полноценной поэзии не ведут и вести не могут. Но понять это радикальному, «априорному» революционеру трудно, если вообще возможно.
Читаю исповедь Герцена и не могу оторваться. Вся его одержимая требованием абсолютной «независимости» душа ушла сначала во французский социализм, а потом в гегелевскую диалектику, не порывая при этом с первым. Искандер свято верил в преобразованную Фейербахом и социалистическими учениями гегелевскую науку. Как санкционированный ею тезис, не прибегая ни к каким доказательствам, он безапелляционно утверждает, что «Россия никогда не имела этого развития (“свойственного ей”, как он выше говорит. -- В.
В.) и не могла иметь» [8, c. 386]. Авторский курсив здесь характерен. Вердикт универсальной аподиктической евроцентрической науки неумолим: Россия не может иметь своеобразного исторического развития -- и точка. Мол, это так же несомненно доказано наукой, как и то, что черви не зарождаются сами собой в гнилом мясе, или Земля не стоит на месте, а вращается вокруг Солнца.
Однако разочаровавшись в абсолютизируемом Западе, Герцен поверил как раз в самобытные «стихии» исконно русской жизни, угнетаемые русской государственностью, причем любой -- будь то московской, будь то петербургской. Русское государство в глазах Герцена инвариантным образом оказывается источником всяческого принуждения и насилия -- сначала над личностью человека, а затем и над народными «началами» или «стихиями» русской жизни. Догматическое неприятие российского государства как такового предстает самым уязвимым звеном в базовых установках как Герцена, так и всего русского западничества. Невзирая на факты, опровергающие этот постулат, западник не видит в государстве российском культурообразующего и цивилизующего страну начала. Это абсурд с точки зрения исторической науки, опирающейся на прочное эмпирическое основание. Но западник с его культом науки не эмпирик, он теоретик, точнее, доктринер.
Герцен уверен, что христианство, с одной стороны, и боготворимая им наука -- с другой, абсолютно несоединимы. Эта и подобные ей, на мой взгляд, фальшивые дилеммы пестрят в философских и исторических построениях Герцена. Порывая с христианством ради нового -- социалистического -- язычества, он обнаруживает свое натуралистическое миропонимание, венчаемое культом позитивной науки. Его позитивизм, однако, что типично для его века, это «полупозитивизм», т. е. такой взгляд на мир, в котором атеистический тяготеющий к материализму сциентизм дополнен морально-гуманистическими установками, отсылающими к отвергнутой им христианской метафизике (эта непоследовательность вскоре будет исправлена Ницше).
Историческую культурную традицию Герцен мечтает заменить «храминой нашего будущего свободно-общинного быта» [8, c. 386]. Он любит органические сравнения, что неудивительно в век Кювье и Дарвина. Россия, наделенная зачатками этой «храмины», нуждается, по его мнению, в оплодотворении западной мыслью, конечно, научно-социалистически ориентированной. С Марксом, однако, у него вышел «раздрай». В жизни и во взглядах они не сошлись. А вот в стилистике мысли и слова параллели нередко бросаются в глаза. И дело не только в общей гегелевской школе. Игра антитезами, пристрастие к дилеммам, нередко упрощающим проблему, «подковыривающий», унижающий противника бичующий сатирический тон говорят об этой общей для обоих мыслителей эстетике прирожденного критика и революционера.
Ну, так кто же он, этот богато одаренный русский человек с немецкой кровью и культурой, но по-французски «вывихнутым» с детства сознанием? Французская вольтеровская саркастичность, легкость, подвижность в идеях и ассоциациях ему действительно присуща. Германской учености с ее педантизмом, пожалуй, в Герцене меньше, чем галльской прыти и остроумия. Но не проявление ли это, быть может, не столько его французского воспитания, сколько славянской природы и жизни в русской культуре? В те годы «французское», как об этом выразительно пишет Анненков, автоматически означало все новое, передовое, бунтарское. А вот несколько высокомерноснисходительное описание национального характера славян (и русских, прежде всего) у Герцена действительно окрашено в тона германской надменности. Мол, они, славяне, женственны, не фаусты, не зигфриды, пассивны и потому не могут развиваться без чужих определяющих влияний, идей и правителей: «Возбужденные другими, они идут до крайних следствий» [8, c. 386]. Бердяев, кажется, увлекался той же мифологемой.
В истории мышление черно-белыми «красками», лобовыми, поверхностно сконструированными дилеммами, без которых западник обойтись не может, несостоятельно. Не будем этого доказывать, а посмотрим на еще одну характерную черту западнического менталитета. Действительно, другой, после принципиального атеизма, опорный пункт революционера-западника -- идея свободы, которую он, однако, не проблематизирует, не подвергает основательной философской рефлексии, а поэтому и не понимает в ее метафизической глубине и жизненной правде. Освобождайся -- и точка. От церкви, от Бога, от государства, от предрассудков, от семьи, от традиции: «Деспотизм или социализм -- выбора нет» [8, c. 387]. В этой заведомо ложной дилемме отсутствует светлая, благая для человека «опция», ибо на обоих ее концах -- только разные деспотизмы. К свободе в тисках такой дилеммы не пробиться. Деспотическая сущность западной демократии (в глазах Герцена шаг к социализму) открылась ему с особой ясностью в июньские дни 1848 г. в Париже. О деспотической сущности осуществленного (реального) социализма опытным путем узнать он не мог. Правда, теоретически он мог догадываться об этом, подобно Достоевскому и некоторым другим мыслителям того века, понимавшим, что социализм принесет только новые формы тирании, неслыханную нивелировку индивидов. Но тогда он не был бы Герценом как идеологом. Разочаровавшись в западной демократии, идее социализма он остался верен до конца.
Герцена глубоко чувствовали люди с историческим и художественным воображением. Среди них Флоровский и Чижевский. Все у Герцена было трагическим: от семейной жизни до жизни идейно-мировоззренческой. Вместе с крахом западнической веры у Герцена подкосилась, не без оснований считает Чижевский, сама способность теоретика «ясно видеть и мыслить», быть философски углубленным реалистом [15, c. 239] (суждение историка о высказываниях Герцена об истории расходится с высокой оценкой Искандера как исторического мыслителя у Флоровского. Вопрос этот требует специального анализа). Можно представить эту ситуацию так: он был как бы предназначен быть западником или не быть в мире влиятельных идей вовсе. Круто съехав с западнических рельс, он теряет, можно сказать, свой теоретический дар, потому что для антитезы западничеству у него не было адекватного мировоззренческого ресурса. Поэтому ему после преодоления идеализма оставалось только уверовать в физиологический материализм a la Бюхнер и Молешотт. И лишь внутренняя художественность самой его мысли удерживает ее на плаву.
С юных лет очарованный сен-симонизмом (скорее даже поначалу самими сен-симонистами как героями-мятежниками) Герцен видит его как новую, истинно гуманную религию:
Религия жизни шла на смену религии смерти, религия красоты -- на смену религии бичевания и худобы от поста и молитвы. Распятое тело воскресало и не стыдилось больше себя; человек достигал созвучного единства, догадывался, что он -- существо цельное... [8, с.114]
Да, в первые десятилетия XIX в. социалистическая квазирелигия была восходящей звездой европейского интеллектуального класса, после социальных катаклизмов революции и реставрации ищущего новых общественных идеалов, далеко не во всем совпадающих с теми, которые были выдвинуты Просвещением и послужили для этих потрясений идеологическим ресурсом. (В своей замечательной статье «Искания молодого Герцена» Флоровский пишет: «По психологической природе своей.социалистическая эпидемия тридцатых годов была движением эмоционально-религиозным. Сен-симонизм был и хотел быть скорее религиозной сектой, чем политической партией» [14, с. 371].) Но вот прошел XIX в., а за ним XX с вердиктом в его финале о якобы окончательном фиаско социалистической идеи, пройдет следующий -- уже сейчас, в его начале, мы видим, как «телега» мирового технологически обновленного капитализма вязнет в грязном хаосе, им же порожденном. Может быть, наконец, человек близкого нам будущего, вспомнив о том блестящем болиде, на который засмотрелся юный Герцен, поймет, что подлинное христианство не отрицает плоть и тела, призывая их преображение и просветление, а никак не истязание?
Еще больше, чем пропетый на романтической манер социалистический марш, меня поразила у Герцена нота торжествующего богоборчества, звучащая в его мелодии грядущего «освящения плоти». (Герцен сходится с Ницше в своей романтической даже, можно сказать, байронической эстетизации безвыходности существования как бытия человека в истории. Оба они -- пламенные художественные натуры, плененные ледяным веком торжествующего позитивизма как философского удостоверения такой экзистенциальной безнадежности. Герцен в этом предвосхищает атеистический экзистенциализм в духе Альбера Камю.) Не предвосхищение ли она «нового религиозного сознания», прокламируемого с конца герценовского века Мережковским и Розановым? Кстати, от фальшивой дилеммы (или «сковывающая» человека вера в «потустороннее», или экзальтация «посюсторонней» освобождающейся плоти) ускользнул, например, Пришвин, прошедший школу Мережковского и Розанова и вполне освоивший ее учение, но сумевший, по крайней мере в поздние годы, его преодолеть. Да и некоторые другие мыслители понимали, что тезис о принципиальной «несоединимости» духа и тела возникает преимущественно в лоне именно западного христианства, в отвлеченно спиритуалистических его версиях, подпитываемых гностической традицией. У Герцена же именно восточно-христианские корни русской культуры в первую очередь не вызывали, как мы сказали, ни сочувствия, ни, тем более, понимания. Он видел православие исключительно «подозревающим» (в смысле ницшевской генеалогии морали) глазом, воспринимая его как изначально чуждое свободе и независимости индивида, а потому казавшееся ему рабским, бессильным, тупым и изжитым давным-давно «византинизмом». В этом он ничем не отличается от «среднего европейца», говоря языком Константина Леонтьева. Герцен тонко и глубоко чувствовал историю, был одарен в этой области настоящей интуицией, а не только обширными познаниями, но его нередко пленяли внешние блестки абстрактных антитетических конструкций. Например, таких, как эта:
Какое мужество, -- восклицает он, имея в виду сен-симонистов, -- надобно было иметь, чтоб произнести всенародно во Франции эти слова освобождения от спиритуализма, который так силен в понятиях французов и так вовсе не существует в их поведении [8, c. 114].
Герцен так радовался «освобождению от спиритуализма», потому что эта философия казалась ему фальшивой и лицемерной. Но мы, сегодняшние русские философы, напротив, с интересом читаем, например, Мен де Бирана, Бергсона и Габриэля Марселя, находя их глубокими мыслителями, близкими нашей культуре. Малоизвестный у нас Мен де Биран, французский аристократ в лучшем смысле этого слова, совсем не был лицемером. Он не только воплощал спиритуализм как мировоззренческую установку в научно-философские понятия, но и свое поведение тоже старался одухотворить. Иначе и быть не может у настоящего спиритуалиста. И русскому искателю правды и истины это так понятно! Кстати, упомянутый нами Михаил Пришвин тоже считал себя спиритуалистом [6, c. 114, 194]. А уж ему отказать в цельности нет ни малейших оснований.
Удивительно богато одаренная, но метафизически поверхностная натура была у Герцена. Но кичиться нам перед ним нет никаких оснований: другое время, другие заботы, другие риски и опыт, другое наследство. Его заботила горделивая, кажущаяся истинно гуманистической претензия перенести императив «всеобщего счастья» с «неба» на «землю». Мы же понимаем, что этот проект провалился и, более того, является в таких формулировках провальным в принципе, что «небо» онтологически выше «земли», хотя земля тоже -- небесная звездочка, и такой статус ее не унижает, а напротив, позволяет осмыслить и осветлить ее темноту. Стелла нобиле -- так называл нашу планету Джордано Бруно. И был прав. В годы юности Герцена социалистическая идея только восходила на интеллектуальный небосклон. Во время молодости людей моего поколения, по крайней мере в нашей стране среди интеллигенции, никого или почти никого она уже не восхищала: в социалистических пороховницах порох тогда быстро выдыхался. Проект этот уже по сути дела был отыгран, а затем и вовсе лопнул. И вскоре вослед мы увидели неприглядную изнанку гуманистическо-либерального утопизма -- любого, а не только социалистического, что и не снилось Герцену с его кажущимся нам теперь наивным смешением туманной любви к народу с абстрактными конструкциями модных социальных построений. Сейчас я совсем не очарован Герценом-теоретиком. Можно даже сказать, -- разочарован, ибо давно его не перечитывал, сохраняя давнишние впечатление и оценку, а заглянув недавно в его мемуары, понял причину своего разочарования. Оно, впрочем, не остановило мое чтение: я стал читать его исповедь с еще большим вниманием.
Остается, однако, вопрос: что же меня так сильно притянуло к Герцену в былые годы? Увлек удивительно искренний тон его писаний, непринужденно совмещающий наблюдательность остроумного писателя с широкими познаниями эрудита, как из рога изобилия сыплющего иностранные фразы и анекдоты, броские картинки из прошлой истории и из жизни своей и окружающих его людей. Меня покорила его свободная манера речи, решительно расходящаяся со стилистикой тогдашней советской литературы. Впервые и с увлечением читал я Герцена в позднесталинское время и после, когда только-только начали появляться робкие признаки грядущей «оттепели». На фоне примитивных книжек Г. Ф. Александрова и подобной литературы Герцен не мог не привлечь к себе юный ум. К тому же мне, читавшему тогда в охотку словарь иностранных слов, интернациональная лексическая палитра Герцена не могла не кружить голову: в ней я интуитивно улавливал что-то близкое себе, как бы угадывая схожий штрих своего будущего стиля (его нарочито утрированный образец читатель может найти в книге [7]). Но, главное, притягивали к Герцену исповедальность тона, смелое и умелое смешивание литературы, философии, науки, истории и политики с очерковой прозой переживаемой здесь и сейчас жизни.
Постоянного раздражения, даже озлобленности Герцена против русских порядков и других подобных сторон его души, которые шокировали меня при его недавнем чтении, тогда я просто не замечал. Заметить же в его горделиво афишируемой «религии независимости» [10, c. 268] романтическую взвинченность, понятную, если мы вспомним его эпоху, я тоже тогда не мог. В юности нас пленяет новизна, парадоксы, внешний блеск легко летящего, околдовывающего нас слога. А этого у Искандера хоть отбавляй. Историю и особенно географию я любил. А сколько у Герцена встречалось незнакомых мне топонимов, исторических сюжетов, зовущих изучать их, вникать, наводить справки о том и о сем! Сколько европейских языков выходило на подиум его страниц в обольстительных афоризмах! Таким, думается, был и его разговор -- зажигательный, остроумный, насыщенный эрудицией. Об этом пишут все, кто его хорошо знали. А советский интеллектуальный стиль -- зажатость. Герценовский же -- сама раскованность, сдерживаемая только чувством меры, которое в лучших вещах было у их автора. Итак, потрясающее разнообразие, остроумие, блеск... Но ведь «кто блестит, тот быстро прогорает» (из стихотворения автора этих заметок). Резон у этого тезиса, думаю, есть. Задел он каким- то боком и Герцена, что наблюдал, например, Анненков. (По приезде в Париж в 1847 г. Герцен «очень скоро сделался, как и Б<акунин>, из зрителя и галереи участником и солистом в парижских демократических и социальных хорах. Под электрическим действием всех возбуждающих элементов города живая природа Г<ерцена> мгновенно пустила в сторону ростки необычайной силы и роскоши, в которые вся и ушла, надрывая свое нормальное существование» [1, с. 295].) Революционные застолья перед катаклизмом 1848 г. с их публичными спичами и скрытыми соперничествами и склоками в конце концов утомили блиставшего на них оратора. Не оттого ли некоторые страницы его воспоминаний кажутся однообразными, как будто полноценный объем художественно воспринимаемого им сузился? Думается, и отрыв от родины обошелся для него как писателя недешево, хотя и внес в его писания какую-то особую, щемящую, бередящую душу силу. Завораживающий блеск речей и письма говорит о таланте страстного полемиста, об остроте критического, легко оборачивающегося сатирой взгляда. Но ведь «блеск» и в природе, и в культуре предполагает наличие отражающей поверхности, означая игру ловко прыгающих семантических «зайчиков», какое-то как бы магическое мерцание чего-то, являющегося на самом деле все же вторичным, не корневым и не фундаментальным. Да, Герцен, увы, метафизически поверхностен (это оборотная сторона его блистательности; Бердяев высказывался в том же духе: Герцен «если и не самый глубокий, то самый блестящий из людей 40-х годов» [2, c. 94], но он не анализировал связь этих сторон творческой личности Герцена, ограничившись указанным замечанием). Все он выглядит протестующим студентом, озабоченным своей, и не только своей, независимостью и свободой. Его изначально преувеличенное очарование Западом, потом не менее преувеличенное разочарование им -- все обличает в нем вечного юношу-протестанта, свободолюбивого подростка-романтика. Если он и не стоит на месте в своих убеждениях, а это, безусловно, так, то все же в последних глубинах духа движения по вертикали я у него не вижу. А вот у похожего на него стилистически, и даже отчасти идейно Генриха Гейне такое движение было. (Сопоставление Гейне и Герцена -- давно обсуждаемая тема в нашей культуре. Об этом писал, например, Блок, переводивший немецкого поэта.) Пораженный мучительной «матрасной болезнью», немецкий поэт смог духовно оторваться от чрезмерной привязанности к «земле». Кажется, суровые испытания, обрушившиеся на Герцена в начале 50-х гг., должны были бы его тоже подвигнуть метафизически приподняться, обратив сердце горе (sursum corda, как говорят католики). Но после пережитого кризиса он так и остался на нигилистической ноте в своих взглядах. Его сатирическое жало о невыносимую боль утрат так и не затупилось. Отхлестать человека за видимую его революционно-доктринерским глазом «несуразность» он и теперь был не прочь, не щадя при этом и своих друзей, как, например, В. П. Боткина.
Еще один штрих к стилистике Герцена в связи с Боткиным. Рассказывая в стиле анекдотической юморески об истории его женитьбы, он называет своего московского друга «сорокалетним философом». Но Боткину тогда было только 32 года. Для красного словца блистательному писателю не жаль и самой правды. Поразительна его страсть к внешним эффектам, а потому -- к преувеличениям, шаржу. Но все это искупает его талант художника в мире мысли и слова, помогший ему вынести выпавшие ему на долю невыносимые страдания. Искры мудрости так и сверкают на страницах его лучших книг. Сам не избежавший стеснений доктринерства, он его с такой проникновенностью обличает, например, в Чичерине, что руки рвутся к аплодисменту: ай, да Герцен! Ведь на страницах своего письма к русскому теоретику права он набрасывает контуры такого мирочувствия, которое мог бы взять себе на вооружение и Розанов. Я имею в виду, например, проницательно прочерченную оппозицию между волей к «обобщениям» и привязанностью к «впечатлениям» [10, c. 252].
Вот еще одно впечатление: много холодноватого, острого, но не очень глубокого ума, но не маловато ли сердца? В уме и знаниях Искандеру не откажешь. Правда, и в сердечности отказать ему невозможно. Она, безусловно, чувствуется, когда, например, будучи в эмиграции, он с такой теплотой вспоминает друзей, желая спасти от забвения милые фигуры с их странными, чудаковатыми «профилями», вроде легендарного Кетчера. Но невольно думается, что как бы обида на существующий мир из-за своего «нестандартного» появления на свет, подрубающая корни родственных связей, и воспитание с самых юных лет в негодующем протесте редуцируют действительно присущую ему художественную способность и сердечность. Отсюда холодок и раздраженный тон воинствующего безбожника и социального обличителя. Он сам себя раскусил, сказав, что таких, как он, воспитывали не матери, вроде Авдотьи Петровны Елагиной, давшей нашей культуре таких «ненаших», как братья Киреевские, а француженки-гувернантки. А если к тому же его воспитывал француз-якобинец, то не был ли уготован тем самым ему путь в нигилисты- революционеры? Самостоять ему приходилось не на близких сердцу «родимых пепелищах» (Пушкин), а на отвлеченных идеях о «новом справедливом обществе» и абсолютно «независимом» человеке. (В поздние годы Герцен говорит о «нашей религии независимости». Но теперь он видит ее не столь ревнивой и исключительной, как прежде. Значит, поток жизненного опыта, его осмысление что-то обточили в граните его революционного кредо с присущим ему культом независимости во что бы то ни стало [10, c. 268].) Идея революции и стала его раз и навсегда принятым личным оплотом: «Я много ездил, везде жил и со всеми жил; революцией меня прибило к тем краям развития, дальше которых ничего нет» [8, c. 359]. Основатель французского спиритуализма Мен де Биран нашел после долгих исканий нерушимый оплот в христианской вере, а тяготеющий к материализму Искандер -- в революции. Как ни широк душой был Герцен, однако не смог он вместить в свободном союзе веру и разум, науку и религию, как смогли такие мыслители, как Мен де Биран или Алексей Хомяков, с которым он спорил до хрипоты.
Религиозное чувство Герцена, если отвлечься от периода мистических исканий в молодые годы, колеблется около нулевой отметки. (С. Н. Булгаков в статье «Душевная драма Герцена» исходил из презумпции неявной религиозности духовного склада Герцена. Такой взгляд, опирающийся у Булгакова на уроки Достоевского и Вл. Соловьева, вполне оправдан, если слово «религия» понимается в «самом широком смысле слова», т. е. «чем» человек «живет, что он считает для себя святым и дорогим, и как он живет, как служит своей святыне. Узнать человека -- значит узнать его религиозную жизнь, войти в эту потаенную храмину» [5, c. 96]. О характере религиозности молодого Герцена впоследствии писал Г. Флоровский, основательно погрузившийся в тему, связывая ее с романтическими веяниями той эпохи. Обсуждает эту тему, заостряя булгаковский подход к интерпретации Искандера, и современный историк философии В. В. Лазарев. Он утверждает, что Герцен не знал того, «что он религиозен, что он верующий» [13, c. 51]. Так далеко заходить в подобном подходе я не могу, принимая, однако, оправданность булгаковской позиции по отношению к Герцену.) Его с годами все больше и больше привлекали материализм и атеизм, предстающие в его глазах как правда жизни, как трезвый реализм, как подлинное знание. (Показательна глава в мемуарах о Роберте Оуэне, которую ее автор в конце жизни считал одной из лучших его работ. В ней замечательна не его мировоззренческая атеистическая позиция вкупе с материалистическим натурализмом, а его художественно прочувствованная философия истории, набросанная в персоналистической тональности.) Церковь для него не более, чем «призрак», как и государство. Чтобы понять генезис его «религии независимости», вспомним еще раз о его родителях. Отец -- екатерининский вельможа, проживший с большой приятностью много лет заграницей, поклонник французского Просвещения, хотя и с рудиментами обрядового православия. Мать -- верующая лютеранка, из чиновнического сословия пиетистского юго-запада Германии. Поэтому неудивительно, что в его жизни сознательного атеиста и материалиста был краткий период мистической экзальтации, в котором можно видеть что-то близкое к лютеранскому почитанию Евангелия как кодекса общечеловеческой морали. В семье Александра воспитывали еще якобинец-француз и один русский учитель, поклонник декабристов.
Теперь я иначе оцениваю и стиль Герцена, так меня восхищавший в юные годы. Зачем эти порой непонятные, иногда даже образованному человеку, иностранные словечки, сыплющиеся у него, как из рога изобилия? А сколько у него давно набивших оскомину насмешек над священническим сословием и дворянством, какое предвзято негативное отношение к традициям и семейным ценностям! Какое непонимание культурной роли государства! Каким же безродным и духовно бессемейным апатридом он был! В этом его беда, его судьба. «Катехизис, -- свидетельствует он, -- попался в руки после Вольтера» [9, c. 53]. Так что нечему удивляться, что в 1849 г., когда он еще мог свободным человеком вернуться в Россию, как предлагал ему Анненков, этой возможностью он пренебрег. Кстати, путь на родину тогда еще не был ему перекрыт, как вскоре случилось впоследствии.
В контрастное дополнение к этой кажущейся врожденной европейскости, неотделимой от исповедания культа революции, у Искандера чувствуется какая-то порой кажущаяся головной любовь к русскому народу. Может быть, это и не так, наверное, не так. Но порой так и тянет предположить, уж не навеяна ли его любовь к народу русскому скорее демократами Франции, вроде историка Мишле, книгой которого «Le Peuple» он восхищался, чем самим русским народом? Ведь какой же сухой, высокомерный, иногда даже глумливый тон у этого сатирика, обличающего ради защиты народа его обидчиков! Что-то в этом тоне слышится иноземное, идущее от теоретической головы революционера, а не от русского сердца с его христианской широтой. Пусть такой тон оправдывается оскорбленным чувством попранной справедливости, нарушением идеалов «свободы, равенства, братства», нравственными пороками русского общества, отрицать которые невозможно. Пусть так. Но как ему оправдать это постоянно, с младых лет питаемое негодование, направленное против церкви и государства российского? Ведь с мутной водой он, не задумываясь, выплескивает и «ребенка», то самое дорогое и бесценное, хранимое и народом и лучшими из аристократов и купцов, что дала культуре и людям России православная вера.
Вот снова читаю бездонные мемуары Герцена. Кстати, на манер Шатобри- ана с его «Замогильными записками», он мгновенно переключает внимание с прошлого на современность и патетически восклицает, обращаясь к друзьям: «Жива ли у вас память о наших смелых беседах, живы ли те струны, которые так сильно сотрясались любовью и негодованием?». Обратите внимание: подчеркнута здесь не любовь, а негодование, гнев, возмущение. «Презрение созревает гневом, а зрелость гнева есть мятеж» (Блок). Со своих сен-симонистских времен Искандер как был, так и остался мятежником par excellence. (Здесь невольно вспоминается Байрон, аристократический мятежник, своим мужеством принятия жизни как безысходной трагедии, так привлекавший Герцена особенно после его семейной драмы с ее смертельными финалами. Подобные, пусть масштабом и помельче фигуры, не такая уж редкость в первой трети XIX столетия.) Его бастардное происхождение только добавляло масла в мятежное пламя, которым пылала его душа, яркая, благородная, широкая, обильная способностями. Но этот самый огонь делал эту душу, увы, плоской, однообразной и серой. Наши пределы -- продолжения наших бесконечностей, наши слабости имплементированы в нашу силу. В эту общую формулу укладывается и casus Герцена.
Но я готов забыть революционное «помешательство» Герцена, даже русофобские высказывания за одну только его способность постигать жизнь верным, точным, образным словом, понимать душевную жизнь и наш открытый для заблуждений дух. Приведу один пример, которых великое множество. Сравнивая слог своих писем Наталье Захарьиной с тоном ее ответов, их автор замечает:
В моих письмах... ломанные выражения, изысканные, эффектные слова, явное влияние школы Гюго. Ничего подобного в ее письмах -- язык ее прост, поэтичен, истинен. Тогда я все еще старался писать свысока и писал дурно, п. ч. это не был мой язык. Жизнь в непрактических сферах и излишнее чтение долго не позволяют юноше естественно и просто говорить и писать; умственное совершеннолетие начинается для человека только тогда, когда его слог устанавливается и принимает свой последний склад [8, с. 242].
Вот за эти и подобные пронзительно верные ремарки я готов закрыть глаза на коробящие меня «инвариантный» социализм Герцена и даже на его ненависть к русскому государству. Артистическая натура умного чуткого человека живет в этом революционере-мятежнике. Как Пушкину пошла на пользу его ссылка в Михайловское, так и Герцену пошли впрок его вятская ссылка и одиночная камера перед ней. Они закалили его, обогатили практическим опытом, благодаря пережитому в это время он созрел внутренне, стал сильнее, яснее духом. Его впечатлительность, интеллектуальная подвижность, критический и даже сатирический склад ума, ирония в духе Ж. -- П. Рихтера и Гейне, легкость сочетания различных культурных языков (вот пример такого сочетания: «Павел, этот жирондист религии», -- для характеристики апостола Павла Герцен использует политический язык эпохи французской революции) уравновесились той проницательностью ко всему человеческому, которая достигается испытаниями трагическими, мучительными. В результате он обрел глубину мысли настоящего писателя и стал самим собой -- лучшим самим собой.
В благородстве натуры Герцену не откажешь. Он демонстрирует его в разных ситуациях, в т. ч. и тогда, когда с насмешкой отзывается об эгоистических мещанских мотивах поведения людей. Но разве возникающий при этом грубый сатирический тон не несет с собой оттенка того же самого неблагородства, отсылающего к осуждаемому им мещанству? Разве сами жанры сатиры, памфлета, пародии под флагом народной ли, природной ли, аристократической ли силы и благородства не мельчат таким сатирикам их души? Выстраивание жанров по иерархии, по высоте их качеств отвечает их природе, отменить его можно только на словах. Герцен по душе богоборческие выпады Беранже, ему близок этот демократический поэт, ставший кумиром наших нарождавшихся тогда разночинцев-народников. Да, религиозной жизни, метафизике и искусству противопоказано чрезмерно политизироваться. Но благородный материалист Герцен не может не поддерживать такую политизацию, предполагающую безоглядное увлечение «социальным вопросом». В этом нельзя не видеть его внутренней саморазорванности ангажированного в «революцию» художника. В 50-60-х гг. XIX в. русская революционная интеллигенция быстро радикализировалась. В этой ситуации фигура Герцена начинала вызывать насмешки у фанатиков «крутой» революции. Когда произошла крестьянская реформа, то следующей крупной социально-политической задачей, мертвой хваткой удушающей русскую культуру, стала задача свержения монархического правления. Возникла жесткая биполярность социального восприятия, когда люди стали делиться на «своих» и «чужих», а с последними, как с врагами, можно было не стесняться в обращении. В таких условиях социального существования культуры ей уже не до духовных и художественных высот и не опускаться в цивилизацию она уже не может.
По меткому замечанию одного современника Герцена «наша текущая словесность изнурена, ослаблена своим сатирическим направлением» [12, с. 61]. Эта мысль принадлежит А. В. Дружинину, тоже ведь человеку либеральных взглядов, погруженному в европейские культуры, большому англоману, переводившему, как и друг Герцена, Кетчер, Шекспира. Действительно, русские западники, радикализируясь, мельчали культурно, религиозно и метафизически. Уровень духовной культуры в интеллигентной среде заметно падал. Почему? Да потому, прежде всего, что утрачивалось художественное измерение мысли. А именно оно учит вкусу, вкус же -- силе мысли, а сила мысли ведет к истине, пусть и не приводя прямиком и вплотную к ней. Художественная мысль по своей природе не может быть плоской, одномерной, односторонней. Она объемна, а значит, и глубока, и широка, не чуждаясь ни лиризма, ни эпичности, ни созерцания, ни практической активности. Русская художественная мысль принимает Европу во всей палитре ее культурной традиции, но не отрицает и Россию, видя в ней почву и цель своих трудов. Таков Пушкин, наш гениальный художник и мыслитель. А западники ушли от Пушкина, принеся в жертву обожествленного ими «социальному вопросу» метафизику, религию, искусство.
Герцен в этом отношении гораздо радикальнее Тургенева (для народовольцев оба они -- тени прошлого). Для Герцена либерально настроенные интеллектуалы, прошедшие западную выучку, но сохранившие художественный склад мысли, пушкинскую зоркость зрения -- «мелкие натуры» (24 ноября 1864 г. Герцен писал Мальвиде фон Мейзенбуг: «Придет другое время -- когда посредственности, мелкие натуры, вроде Боткина и Анненкова, одумаются» [1, с. 580]). Однако ни Анненков, ни Дружинин, ни Тургенев мелкими посредственностями, безусловно, не были. Но не обнаружил ли таким суждением свою собственную «мелкость», т. е. поверхностность духовного зрения, сам идеолог «общинного социализма», ради абстрактной идеи умаливший присущий ему художественный дар? Там, где Герцен в художественно одаренном рассказе нашпиговывает его обобщениями, там он легко срывается в тенденциозного идеолога, не жалеющей для несогласных с ним черной краски. Поэтому его целостный образ раздваивается, подобно Янусу.
Затянувшуюся попытку разобраться со своим отношением к автору «Былого и дум», названную «Прощание с Герценом», я не могу однозначно закончить «прощанием» в смысле окончательного расхождения с ним. Да, с фанатиком социально-политической идеи, гордым своей верностью обету революционного отмщения, по сути дела я простился давным-давно, хотя в полной мере час осознания этого тогда и не пробил. И сейчас, с аргументами в руках, подтверждаю этот divorce resolu. Но с Герценом-писателем с подвижной, тонкой и щедрой душой, восприимчивой ко всему человеческому, проститься не могу. Что меня останавливает в этом? Останавливает его художественный талант, ускользающий от всех идеологических заглушек и убежденческих блокад. Вот один пример. История семейного кризиса, пережитого Герценом в начале 50-х гг., написана умным, мужественным человеком, правдивым и благородным, умеющим учиться на уроках жизни. Искренность ее тона, такт, сила слова и духа не могут не привлечь читателя. Это настоящая литература высочайшей пробы, потому что в ней пульсирует сама жизнь, говорит именно она, а не натренированный в эффектных приемах литератор. Он, конечно, тоже присутствует. Но все определено подлинно пережитым страданием. На такой глубине боли исчезают блестящие поверхности с их тщеславием, суетностью, честолюбием, порой мелочным остроумием под «крышей» высоких принципов. Да, Герцен не мог этого не написать -- по-другому пережить случившееся он, будучи сам собой, просто не мог. Он ведь буквально погибал. Но, переехав в промозглый Лондон с задернутого черным крепом Лазурного берега, он доверился, как в лучшие годы, исключительно своему художническому дару. (В писаниях Герцена, обильных, разнообразных, вдруг возникают такие пассажи, что душу от них отвести уже не в силах. Ну, вот, например, о гносеологической ценности пламенеющей души: «Страсть может не только ослеплять, но и проникать глубже в предмет, обхватывать его своим огнем» [11, с. 213]. Но философского учения из таких вспышек проницательной мысли он не создал. «Слабости Герцена как философа-систематика», о которых не без основания говорит С. Н. Булгаков [5, с.111], на мой взгляд, с лихвой компенсируются силой его художественной одаренности. Научной системности мысли и ее художественности, кажется, суждено соотноситься друг с другом в режиме обратной пропорциональности, когда большое значение одного из этих моментов означает малую величину другого.) Проститься с таким Герценом невозможно. Констатацией парадокса сочетания свершившегося прощания с его невозможностью я и закончу эти заметки.
Литература
герцен западничество теоретик
1. Анненков П. В. Литературные воспоминания. -- М., 1989.
2. Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. -- М., 1990. -- С. 43-271.
3. Блок А. Крушение гуманизма // Блок А. Собр. соч.: в 8 т. -- М.; Л., 1962. -- Т. 6. -- С. 93-115.
4. Блок А. Собр. соч.: в 8 т. -- М.; Л., 1960. -- Т. 3.
5. Булгаков С. Н. Душевная драма Герцена // Булгаков С. Н. Соч.: в 2 т. -- М., 1993. -- Т. 2: Избранные статьи. -- С. 95-130.
6. Визгин В. П. Пришвин и философия. -- М.; СПб., 2016.
7. Визгин В. П. Божьекоровские рассказы. -- М., 1993.
8. Герцен А. И. Былое и думы. -- Минск, 1957. -- Т. 1.
9. Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. -- М., 1956. -- Т. VIII.
10. Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. -- М., 1956. -- Т. IX.
11. Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. -- М., 1957. -- Т. XI.
12. Дружинин А. В. Литературная критика. -- М., 1983.
13. Лазарев В. В. На пути к синтезу распавшихся сторон (моменты развития мировоззрения Герцена) // Философские науки. -- 2013. -- № 2. -- С. 46-56.
14. Флоровский Г. Искания молодого Герцена // Из прошлого русской мысли. -- М., 1998. -- С. 358-411.
15. Чижевский Д. И. Гегель в России. -- СПб., 2007.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Могущество мысли в беллетристических произведениях Герцена нередко истолковывалось как слабость его художественного дарования. Демократическая направленность творчества Герцена. Красочность и неповторимое своеобразие герценовского стиля.
реферат [9,2 K], добавлен 15.03.2006Польский вопрос в русской общественной мысли как реакция на национальное движение польского народа. Книга "Воспоминаний" Дмитрия Алексеевича Милютина. Анализ взглядов Герцена по польскому вопросу. Проблема отношений Герцена и Каткова. Характер восстания.
доклад [54,1 K], добавлен 12.03.2013Идейные взгляды А.И. Герцена как создателя Вольной русской типографии. Литературная и публицистическая деятельность и философские взгляды Герцена. Открытие свободной типографии, первый этап ее работы ("Полярная звезда"). "Колокол" - издание на злобу дня.
курсовая работа [43,8 K], добавлен 28.07.2010Революционно-демократическое направление русской общественной мысли. Теория "русского социализма" А.И.Герцена и ее значение для общества. Становление социалистических взглядов П.Н. Ткачева, П.Л. Лаврова, М.А. Бакунина и сильная сторона теорий народников.
реферат [65,9 K], добавлен 02.03.2009Изучение народнического движения в России на основе анализа идей и воззрений А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. Раскрытие явления "хождения в народ". Деятельность организаций революционного народничества: "Земля и воля", "Народная воля" и "Черный предел".
реферат [38,4 K], добавлен 21.01.2012Л.Д. Троцкий как деятель международного коммунистического революционного движения, практик и теоретик марксизма, идеолог одного из его течений — троцкизма, краткий биографический очерк его жизни. Значение данного деятеля в революции 1905-1907 гг.
презентация [430,8 K], добавлен 12.03.2012Политический и личностный портрет А.Н. Косыгина, значение его политики для развития СССР. Оценка, данная премьеру современниками и историками. Деятельность в дипломатической сфере, цели, ход и итоги хозяйственных преобразований и причины их неудачи.
реферат [37,5 K], добавлен 28.09.2011Применение измененной философской системы Гегеля к российской действительности как основа учений Белинского. Рассмотрение деятельности кружка петрашевцев под руководством Бутрашевича-Петрашевича. Формирование теории "русского социализма" Герценом.
реферат [24,0 K], добавлен 19.03.2010Кружки и публицистические выступления передовой интеллигенции в 30-х годах XIX века. Политическая поэзия как средство революционной агитации. Формирование революционно-демократического направления. Деятельность Белинского и Герцена в 40-е годы.
реферат [43,8 K], добавлен 07.12.2006М.А. Бакунин - русский революционер, публицист, один из основоположников анархизма, идеолог народничества. Необычность биографии Бакунина. Теоретические взгляды М.А. Бакунина. Его политическая деятельность в России. Взгляды теоретиков народничества.
реферат [48,2 K], добавлен 13.11.2010Переход Л.А. Тихомирова из лагеря революционеров в стан консерваторов. Мировоззренческое и идеологическое обоснование его новых ценностей. Первый этап творчества Тихомирова как консерватора. Л. Тихомиров - виднейший теоретик самодержавия начала XX века.
дипломная работа [74,1 K], добавлен 24.05.2010Последствия реформы 1861 г. Организация "Земля и воля": основные требования, программа, соучредители. Идеи общинного социализма Герцена и Чернышевского как основы политического течения радикальной интеллигенции - народничества, его этапы и идеологи.
реферат [28,6 K], добавлен 22.04.2009Первые организации будущих декабристов. Северное и южное общества. Восстание черниговского полка. Историческое значение движения декабристов. Трагедия на Сенатской площади. Революционная агитация Герцена. Осуждение обществом действий царя Николая-I.
реферат [54,6 K], добавлен 13.03.2013Основные течения общественной мысли и движения в России в XIX веке. Официальные и оппозиционные течения. Славянофилы и западники. Идеологи российского либерализма. Этапы движения радикалов второй половины XIX века. Восприятие идей Герцена и Чернышевского.
реферат [23,9 K], добавлен 21.10.2013Анализ становления и формирования канадского государства. Предпосылки возникновения и тенденции развития франкоканадского национализма. Анри Бурасса как идеолог политической мысли Канады. Изучение точки зрения общественности по вопросу о роли Квебека.
дипломная работа [102,8 K], добавлен 16.06.2017Идеологическая основа репрессий в отношении писателей 30-х г. Политическая концепция партии в работе с писателями. Репрессии в отношении ряда известных и провинциальных советских писателей. Репрессии против писателей Мордовии. "Дело сибирской бригады".
дипломная работа [122,7 K], добавлен 05.06.2017Краткий очерк биографии жизни и деятельности известного русского профессора истории Т.Н. Грановского. Общественное движение "западничество" как особое мировоззрение некоторых философов и писателей ХІХ века. Государственно-правовые взгляды Грановского.
контрольная работа [28,6 K], добавлен 01.09.2012Формирование общественно-политических взглядов Н.М. Карамзина, его личность в общественной жизни России в оценке русских писателей, критиков, исследователей. Позиция писателя-историка на правление Александра I, требование к соблюдению законности.
реферат [39,0 K], добавлен 29.07.2011Исторические факты о татаро-монгольском нашествии по летописным свидетельствам XIII-XVI вв. Первые упоминания термина "Татаро-монгольское иго". Факты, противоречащие официальной версии. Свидетельства о жизни и социальном укладе в России в данный период.
реферат [763,8 K], добавлен 19.10.2013Исследование государственной деятельности Льва Давыдовича Троцкого. Анализ особенностей детства, юности и сложностей жизни политического деятеля. Обзор его участия в подготовке вооруженного восстания большевиков. Характеристика период его триумфа и краха.
реферат [34,4 K], добавлен 20.12.2016