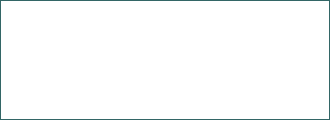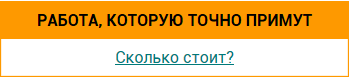Пароксизм ночного слова Бланшо
Анализ специфики письма, используемого Морисом Бланшо в тексте "Тома Темный". Рассмотрение сущности эпитета "ночной". Подчеркивание зараженности, греховности логоса. Феномен удвоения текста письма. Принцип тождества мышления и бытия, слова и плоти.
| Рубрика | Литература |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 27.05.2021 |
| Размер файла | 66,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
Воронежский государственный университет
Пароксизм ночного слова Бланшо
М.Ф. Литвинов
Аннотация
Воронежский государственный университет
Литвинов М. Ф, кандидат философских наук, доцент кафедры истории философии
в статье анализируется специфика письма, используемого Морисом Бланшо в тексте «Тома Темный». С помощью такого эпитета, как «ночной», подчеркивается зараженность, греховность логоса, функционирующего у Бланшо через отклонение. С одной стороны, эти характеристики ставят философскую мысль в оппозицию к выверенному школой платонизму, с другой же - вскрывают бреши и червоточины идеалистического учения, что называется, изнутри. Этой двойственностью определено обращение в статье к ницшеанской идее о вечном возвращении, привлекавшей Бланшо как христианина, с помощью которой сам автор описывает феномен удвоения своего текста. Отталкиваясь от мысли Ницше, от ее зараженности идеализмом, философский язык Бланшо можно охарактеризовать как схоластический, возобновляющий принцип тождества мышления и бытия, слова и плоти, однако, с подчеркнутым вниманием к периферийному, темному содержанию существования, именуемому «другой ночью».
Ключевые слова: апофансис, вечное возвращение, герменевтика, греховность, гуманизм, двойник, деконструкция, затемнение, игнорирование, идея, итинерарий, контаминация, личиночная онтология, логос, метафизика, нигилизм, ницшеанство, обскурсивный позитивизм, отсрочка, паразитирование, периферия, перспектива, платонизм, пора, путь, различие, соскальзывание, схоластика, тело, тень, тождество бытия и мышления, удвоение, фрактал, христианин, христианство, центр, эмбриология.
Abstract
Литвинов М. Ф, кандидат философских наук, доцент кафедры истории философии
Voronezh State University
Litvinov M. F., PhD, Associate Professor of the History of Philosophy Department
the article analyzes specifics of writing employing by Maurice Blanchot in his text «Thomas the Obscure». Via such an epithet as «nocturnal», it stresses the contamination and sinfulness of the Logos, which operates in Blanchot's fiction through a declination. On the one hand these characteristics put a philosophical thought in opposition to the Platonism verified by school, on the other - they reveal the gaps and wormholes of the idealistic doctrine from within. This ambivalence defines an appeal to a Nietzschean idea of eternal return, attracted Blanchot as a Christian, through which the author himself describes a phenomenon of doubling his text. Starting from Nietzsche's thought, from its idealistic contamination, Blanchot's philosophical language is characterized as scholastic, renewing the principle of identity of Being and Mind, Word and Flesh, however, with an emphasis on a peripheral, obscure residue of existence, called «the other night».
Key words: apophansis, eternal return, hermeneutics, sinfulness, humanism, doppelganger, deconstruction, obscuration, ignorance, idea, itinerary, contamination, larval ontology, logos, metaphysics, nihilism, Nietzscheanism, obscursive positivism, postponement, parasitism, periphery, perspective, Platonism, pore, path, difference, glissade, scholasticism, body, shadow, identity of Thinking and Being, reduplication, fractal, Christian, Christianity, center, embryology.
Основная часть
Смеется мир, завеса порвалась,
В объятьях брачных с светом тьма слилась...
Ф. Ницше. По ту сторону добра и зла
Как истовый грешник в теле праведника, слово Бланшо непрестанно сгибается, корчится в судорогах, сдерживамое только одной, единственно значимой для себя формой - формой форм, однако же, иной. Ее чистота сомнительна, но могущество несомненно. Ее метафизичность высшей пробы, ибо она объемлет действительно все формы, без спасительного отмежевания от зараженного возможностью мира в окаймленное границами совершенного сущего благостное и облаченное существование, нагота которого скрыта явленностью абсолютной простоты и красоты. Грешник в этой новой схоластической системе безусловен и необходим, он определяет вечное стремление христианина пройти ведущий ко спасению путь, в конце концов, вступить на него и пойти если не твердой поступью, то всё же испытывая действие гравитации. Бесконечный путь коррелятивен неизбывной греховности, от которой прежнюю схоластику отчасти спасает Платон и постулируемая им чистота Идеи с присущим ей анестетическим свойством -- игнорированием. (Оставим в стороне вопрос о том, могут ли зло, тень, тьма, симулякр, двойник оказаться в итоге могущественнее блага, как замечает Платон в «Законах»; оставим в стороне вопрос, насколько «Платон, знавший себе подобных -- и самого себя ...» [1, с. 860], в своем стремлении к справедливому государственному устроению был сам неподвластен злу.) Это игнорирование слишком часто ставилось в вину христианской доктрине, слишком часто прибегающей к нему как к единственному источнику избавления от тягот мира сего. Игнорирование посредством Платона, продиктованное игнорированием самого Платона той теневой стороны реальности, что не может быть обойдена вниманием мысли, открывающей себя в себе самой как красоту и благо в различении с тем, что таковым не является. Обратное движение к тени, не с тем, чтобы в ней раствориться и признать таковую в качестве своего господина, но с тем, чтобы попытаться понять оптику как эмпирического, так и эйдетического [созерцания], -- таково именно философское стремление мысли, которое невозможно не признать, в том числе уже и у Платона. Ведь не сам ли Платон отличает философа от мудреца, полагая философскую мысль странствующей, обращенной в поиске к истине? Без тени, задающей перспективу, итинерарий был бы немыслим. А в том, что Тома Темный находится в пути, без малейшего шанса рассудком своим овладеть этим событием, расправиться с ним, тем самым выключив себя из событийности, -- в этом не приходится сомневаться: фривольность морской авантюры главного героя, с которой и начинается повествование, указывает на это со всей очевидностью. В этом символе пути действительно есть что-то стремящееся к всемогущему, но трансцендентному божественному принципу, сопрягающему дольнее и горнее в образе нескончаемой дороги: бесконечность пути крестообразно связывает две разнонаправленные ориентации в этом странном тексте Бланшо -- герменевтическую и деконструирующую. Причем полагание смысла в герменевтическом пространстве дискурса Бланшо задается как свершение деконструкции, а критическая составляющая текста Бланшо в итоге неожиданно для себя самой осуществляется в (квази?) задании смысловой оси интерпретации. -- См. статью Жереми Мажореля «Деррида и Старобинский, критики Бланшо?» [2]. Так, Тома Темный движется по направлению к другой ночи, намерение достичь которой ставит пределы всякой феноменологии, всякому интендированию. Но как бы то ни было, в этом приключении Тома также угадывается авантюра Заратустры, для которого однажды «вершина и пропасть -- слились теперь воедино» [3, с. 413].
И то, что христианство для Мориса Бланшо не пустой звук, также всем хорошо известно: «дневное слово», заводя в тупики яростной религиозности, лишь усугубляет положение неискоренимого грешника перед распятием. Лучшие песни должны бы они мне петь, чтобы научился я верить их избавителю: избавленными должны бы выглядеть его ученики!» [3, с. 364]. Так изживает христианство Ницше, не сумев избавить себя от необходимости этого изживания. Литература Бланшо, вовлекающая мысль в эффект аппликации, умножения смысла, являет нам не столько другой, неатеистический способ низвергнуть христианский ressentiment, допущение чего вполне оправданно, поскольку Бланшо, оставаясь правым, формально становится даже большим христианином, когда пишет о воскрешенной смерти (хотя la mort ressuscitee следует отличать от la resurrection de la mort, на что указывает Кевин Харт в своей статье «Нейтральная редукция: Темный Тома» [4]), сколько ту же самую попытку обнаружить проявление могущества, но только изнутри «аскетического идеала». В конце концов и Ницше признается в невозможности быть радикальным в своей критике христианства: «... и даже мы, познающие нынче, мы, безбожники и антиметафизики, берем наш огонь все еще из того пожара, который разожгла тысячелетняя вера, та христианская вера, которая была также верою Платона, -- вера в то, что Бог есть истина, что истина божественна...» [1, с. 873]. Бланшо доводит до предела обусловленность нашего мышления этой ценностной установкой на утверждение истины, располагаясь на границе языкового выражения, от которой обыденная языковая практика бесконечно отдалена. Но именно оставаясь приверженцем Логоса, он получает возможность не просто декларативно заявлять о его зараженности, но, с опорой на контаминированного Платона, нейтрализовывать последствия благодушного сокрытия этой зараженности, вдохновляя последующий проект деконструкции Жака Деррида.
Однако из всего этого вовсе не следует никакого подчеркнуто благочестивого дискурса, поскольку «греховным» у Бланшо оказывается логос, завладевающий и человеческим существом, и верховным котом, подвергающий подручное сущее (книгу, например), в той же самой степени, что и Тома с Анной, смертоносным скручиваниям и перегрузкам. Как пишет Старобинский, анализируя первую главу Томы Темного, «образ здесь есть необходимый минимум тела/телесного для того, чтобы мысль воспринималась как мысль» («L'image est ici comme le minimum de «corps» necessaire pour que la pensee se percoive comme pensee» [цит. по 2, с. 159]).
Зараженность логоса определяет грандиозный и незавершаемый распад всего сущего (и маленькой вселенной, окружающей героев этого небольшого рассказа Бланшо, и вселенной как таковой) на бесконечное число личиночных субъектов, под конец повествования выхваченных (рентгеном ли, вспышкой ли, или, быть может, методом радиоизотопного датирования?) той или иной неразвившейся стороной твари в качестве отдельных эмбрионов, зародышей. В этом смысле «Тома Темный» -- это рассказ, который мог бы служить введением в логосную эмбриологию, если под таковой иметь в виду все те философского рода соображения об эмбриональном развитии, что инкорпорированы в текст о различии и повторении. Характерно здесь то, что микроэкстатика возобновляемой Словом рекурсии посредством игры означающего с означаемым, их постоянного переодевания друг в друга (так Тома из имени, располагающим своим хоть и вымышленным, но конкретным денотатом, превращается в слово, обозначающее двойника), возвращает мысль не столько к слову самому по себе, сколько к слову развоплощенному, или же, что тоже самое, оплотненному тем, перед чем оно рассеивается. Зараженное темным двойничеством слово возвращает мысль «миру» феноменологов, со всем тем его сомнительным содержанием, к которому реалистически наивная феноменология оказывается благосклонна, воздавая и ему должное, вновь, по-гречески юно (через единство ноэзы и ноэмы), воспевая едва уловимую, отнятую рассудочностью «новизну» существования, литературно воссоздаваемую с подобающей скрупулезностью личиночной онтологией. Именно разомкнутость коллапсирующего слова, деконструирующегося в самый момент своего мифоподобного утверждения, лишает новую схоластическую «реальность» беспочвенности. Как однажды заметил Ницше, слово -- это танец, танец «дитя человеческого». И Бланшо следует этой плясовой установке, возобновляя традицию философствования исходя из принципа тождества бытия и мышления, плоти и логоса, однако, в рамках обновленной схоластической системы, в которой Истина, Благо и Красота больше не составляют единого целого. Система обновлена через контаминацию, отвергаемую Платоном в принципе, но допускаемую виртуально, на периферии действительности идеи, на периферии Единого, на периферии бытия, расслаивающихся в этой предельной для космического устройства точке. Тень в пролонгированном платонизме исходит от затемняющего божественного ума, которым и является сфера самообосновывающихся идей.
Если фрактальность структуры самообосновывающихся идей в платонизме еще сдерживается логикой закругляющего созерцания, приспособленного к предметности макромира, лишь на микроуровне свободного теоретизирования обнаруживая трещины, противящиеся совершенному круговому движению, то уже для Ницше такая ситуация невыносима. Ибо, с его точки зрения, платоники всех мастей, прикрываясь бесстрастным стремлением к истине, упрочивают паразитирование идеального, ирреального на реальном, превознося оборачивание периферийности эйдоса его центрообразующей частью (всякий раз многого единым, а небытия бытием, даже если в качестве отправного пункта берется небытие или многое), поскольку, кроме идеи как истинно сущего бытия, для них ничего больше не может быть. То, как пролонгированный платонизм справляется с диалогом «Парменид», являет потрясающую всеядность идеи, ее стремление утверждать центр повсюду, поощряющее в итоге нигилистический вкус к негативному и противоречивому. Недаром «Парменид» подводит нас к Гегелю. Удваивая текст «Томы Темного», переводя его из плоскости романа в плоскость рассказа, Бланшо вовлекает уже высказанную мысль в более рискованное предприятие, требующее признать центр [текста] по сути отсутствующим или бесконечно отсрочивающим свое обнаружение, ибо этот центр есть не что иное, как исходная полная фигура, пытающаяся этот воображаемый центр отыскать, в свою очередь, также поддаваясь соблазну диссеминации. Это замечание самого Мориса Бланшо, которым он снабжает выход новой версии «Томы ...»: «... la presente version n'ajoute rien, mais comme elle leur ote beaucoup, on peut la dire autre et meme toute nouvelle, mais aussi toute pareille, si, entre la figure et ce qui en est ou s'en croit le centre, l'on a raison de ne pas distinguer, chaque fois que la figure complete n'exprime elle-meme que la recherche d'un centre imaginaire» [5, с. 7]. Структура, которой пользуется здесь Бланшо, касается, прежде всего, ницшеанского дискурса, который тем самым с полным правом поселяется в тексте «Томы Темного». См. статью Бланшо «Ницше сегодня», в которой эта структура подается как интерпретация Ясперса ницшеанского наследия.
Такое незакругляющее выпрямление, высвобождающее поток жизни, есть единственное средство борьбы с тем нигилизмом, что привык перескакивать, не замечая их, через зияющие своими темнотами «пустоты», столь естественные для созерцания, будь оно эмпирическим или же эйдетическим, заполняя их позитивностью, соответственно, фактического или сущностного. Эта позитивность по определению не охватывает всей полноты действительного, она абстрактна и представляет собой результат дневного схватывания, полуденной нивелировки теневого. Морис Мерло-Понти, ссылаясь на «Знаменитые уроки» Ланно, об этой постоянной опасности довольствования абстрактным пишет следующее: «Чисто ощущение, определяемое воздействием стимулов на наше тело, является “конечным результатом” знания, главным образом, научного знания, только в силу иллюзии, впрочем, совершенно естественной, мы ставим его в начало и считаем, что оно предшествует знанию. Это всего лишь необходимый и по необходимости же обманчивый способ представления разумом собственной истории» [6, с. 66].
Тень, утверждающая себя со стороны той сокровенной части нас самих, которую мысль связывает с личностью, субъектом, сознанием, cogito, невоспринимаема для полуденного позитивизма. Анри Бергсон, пожалуй, первый, кто проясняет эту способность разума вводить во всякого рода видимости: «Но если живые существа образуют во Вселенной “центры индетерминации” и если степень этой индетерминации измеряется числом и совершенством их функций, то вполне понятно, что уже одно наличие этих живых существ может быть равносильно исключению или затемнению, тех сторон предметов, которые к этим функциям не имеют отношения» [7, с. 179].
Принципиальное бессилие перед свершением теневого, неатенционального в нас, а следовательно, и специфика «чистого восприятия» вещного или материального как такового, неуловимы для полуденного позитивизма, от того лишь условно противопоставляющего себя негативному знанию. Означает ли это бессилие перед теневой, или лучше было бы сказать, следуя в этом Морису Бланшо, темной стороной реальности, необходимость отбросить завоевания позитивизма? Очевидно, что нет, ведь каким бы негативизмом ни была поражена мысль, вопрос «почему есть нечто, а не ничто?» для нее есть сущностный вопрос. Ввиду этого теневой или обскурсивный позитивизм закономерен в своем возникновении как попытка утвердить место вопрошанию внутри сферы апофантического. В ХХ в. попытки такого рода философствования связаны, прежде всего, с именами Бергсона, Мерло-Понти и Делеза. К этой плеяде мыслителей стоило бы добавить имя Ницше, описывающего аскетический идеал философа, который всем своим существом, своим главным и исходным интересом как бы полагает эту сферу обскурсивности, le desinteressement: «Философа узнают по тому, что он чурается трех блистательных и громких вещей: славы, царей и женщин, -- чем отнюдь не сказано, что последние не приходят к нему. Он избегает слишком яркого света: оттого и избегает он своего времени и его “злободневности”. Здесь он подобен тени: чем дальше закатывается от него солнце, тем больше он растет. Что до его “смирения”, то, мирясь с темнотой, он мирится также с известного рода зависимостью и стушевыванием; более того, он боится быть настигнутым молнией, его страшит незащищенность слишком обособленного и броского дерева, на котором всякая непогода срывает свои причуды, а всякая причуда -- свою непогоду» [1, с. 835].
Их философским интуициям присуще стремление не устанавливать пограничные заставы задним числом, поочередно укрепляя позиции слов и вещей, идеализма и реализма, спиритуализма и материализма, сознания и тела, оказывающихся тем самым абсолютно разорванными и субстанциализированными, но исходить из сумеречных зон нейтрального как из условия оформляющейся так мысли об образности материального мира и центрах индетерминации, плоти мира и хиазмах, складках и бестелесных эффектах смысла. Тот же мотив обнаруживает себя у Мориса Бланшо на страницах «Томы Темного» и с 1932 г. начинает определять направление дальнейшего движения его мысли. «C'est un peu comme l'allegorie de la caverne a l'inverse : le monde des idees dans lequel il s'est enferme obscurcit sa perception du monde sensible. Autour de lui, il ne voit que des ombres» [8, с. 12-13]. Так можно было бы охарактеризовать способ видения, который приобретает Тома, в тот момент, когда в нем, проникнув через бесполезный во тьме зрачок, начинает обживаться Темный двойник. Однако эту фразу из шутливого философского псевдо-детектива Лорана Бине здесь необходимо прочитывать буквально, уже не в качестве аллегории, подразумевающей спасительное отмежевание идеального. Фраза притягательна своей двусмысленностью, в которую с легкостью можно угодить как в капкан. Она откровенно заявляет об усвоенном школой платонизме, вычленяющем образцы, копии и симулякры, противопоставляющем мир идей миру вещей, исключающем малейшую возможность осквернения чистого. Но в той же степени фраза говорит не только о видении мира сквозь идеи, о доступности всего лишь теней в этой скорбной юдоли, но и буквально о затемняющей функции идеального, которая позволяет косвенно обнаружить теневую сторону вещного, избегающую тирании закона достаточного основания. Ролану Барту в фантазии Лорана Бине не везет по причине давней привычки к теоретизированию и в виду этой замкнутости в мире идей, что опять же герменевтически работает на строгое размежевание идеального и экзистенциального, он оказывается под колесами фургончика Ивана Деляхова. Герою Бланшо приходится идти до конца в следовании логике «Парменида»: он сам становится средоточием той темноты, что исходит от логоса. Затемняющая сторона логосности в тексте Бланшо трансформирована в способ обнаружения теневой стороны вещей. Не вещь дана в качестве тени, экзистенциальным статусом которой можно пренебречь, но вещь дана в свете тени, избавляющей дискурсивную практику от самореференциальной замкнутости, в которую угождает всякая «амфиболия». Выпрямление стремящегося замкнуться в круге движения подразумевает различие не только в одном произвольно взятом ряду, который остается одним и тем же рядом (в данном случае, слов/ вещей или, в итоге, слов выдаваемых за вещи), как это описывает Делез, но и между гетерономными рядами. «Чистая интуиция, внешняя или внутренняя, постигает нераздельную непрерывность. Мы дробим ее на рядоположенные элементы, которые соответствуют то отдельным словам, то независимым предметам. Но именно потому, что мы разорвали первоначальное единство нашей интуиции, мы и чувствуем потребность установить между разобщенными элементами связь, которая может быть теперь лишь внешней и привнесенной. Живое единство, которое рождается из внутренней непрерывности, мы заменяем искусственным единством пустой рамки, такой же косной, как те элементы, которые она соединяет» [7, с. 275]. Данная мысль Бергсона предвосхищает стремление Делеза удержать мыслью множество соотносящихся друг с другом гетерогенных рядов в прояснении того, чем может быть действительное различие.
Подвижность, вкупе с предрасположенностью к гибельным трансформациям, сформированной особи (представим ее, как то предписывает классическая метафизика, находящейся в точке акме) сулит способность слова, дискурсивной множественности, превосходить стремление ограничиться системой различий, действующих в рамках только одного ряда; способность взламывать свои кажущиеся застывшими и столь естественными формы, междоусобной схватке которых Тома Темный отдается сполна, подставляя этому множащемуся логосу свои поначалу еще хранящие «антиномичность» плечи. Наличие одного ряда явлений, описываемого регрессивно в качестве синтетической тотальности, делает различие второстепенным, лишая его собственной специфики, сводя его к количественным характеристикам, утверждая различие лишь по степени в иерархизированном с помощью верховного сущего гомогенном бытии. Вследствие чего мысль, радикализирующая различие, мысль, исходящая из качественного многообразия, с необходимостью предстает как нечистая, зараженная сочленением с чем-то другим, т. е. как греховная. Эту зараженность логоса стоило бы сразу освободить от чисто атрибутивного истолкования. Греховность логоса здесь не есть нечто второстепенное, нечто налагаемое извне в качестве претерпеваемой им коллизии, с которой он непременно должен справиться, установив под тем или иным обличьем свою непреходящую сущность. Греховность, что, впрочем, и так ясно, обнаруживает себя как изнутри разъедающая болезнь, спаяющая дух и тело в единое нерасторжимое целое под эгидой того плотского, которому невдомек претензии выспреннего, но не причиняющего неудобств идеализма. Возвращающееся таким образом «плотское» освобождает от излишней сдержанности d'un petit bourgeois, справедливой лишь в отношении душевных порывов, сформированных логикой абсолютного противопоставления телесного и духовного, что открывается Гансу Касторпу, любознательному и склонному к созерцанию инженеру из «Волшебной горы», а не военному Иоахиму Цимсену, которому так и не довелось оставить себя на полях Первой мировой. Обретаемая в этом синкретизме телесного и духовного, неумолимо ранящая откровенность слова, подводящая у Томаса Манна к жесточайшей и уродливой бойне, изворотливость слова, столь кропотливо воссоздаваемая автором как являющая оборотную сторону возвышенной риторики Ренессанса, когда к гуманистическим декламациям о достоинстве человека присовокупляется нездоровое влечение «познать» пористость плоти -- всё это присутствует и в тексте Бланшо, но радикальнее. У Бланшо слово не изворотливо, но функционирует будучи вывернутым наизнанку, освобождаясь от остатков сопутствующих логосу морализаторства и дидактики. И, если пористость конкретного, но раздваивающегося тела Пшибыслава/Клавдии, испуская ароматы секретов, завлекает, а затем затягивает в сети болезни Ганса Касторпа, то тот же механизм погружения в неведомые, но подчеркнуто «телесные», корпоральные11 среды действует и по отношению к Тома. Но он уже туда соскальзывает, проскальзывает (вариативность перевода такого частотного во французской литературе глагола, как glisser, поражает, ибо здесь перед нашим взором и сомнительность самого этого предприятия соскальзывания, и разложение телесного начала) в ту пористость бытия, которая уже не может манить и соблазнять совершенством облаченной в латекс формы. Мрамор, в который погружается Тома, явственно указывает на воззвание Заратустры к человеку преодолеть свою человечность, слабость, претворив уголь человеческой плоти в алмаз [3, с. 465--466]..
«Плоть мира» обретается, открываясь для переживания и дискурса, в соскальзывании, уже подготовленном самим телесным началом, в бесчисленной череде совмещений, переплетений с самим же собой поднимающимся в определенный момент до «духа». Подчеркнуть особость этого попятного, а потому трудноуловимого движения можно было бы сопоставлением с тем, что Хайдеггер имеет в виду под падением. Озабочение вещами, безликость не означают никакого обратного пути к плотскому, никакого раскручивания, которое могло бы в итоге привести нас в усталости и бессоннице к сфере il y а, ибо оставляют нас, и это здесь принципиальный момент, в мире форм, в котором нагота простого «имеется» сокрыта. Эта аристотелевская привязанность к качествам, невозможность абстрагирования от них, передается как метафизический остаток Хайдеггеру, поэтому «падение», несмотря на сопутствующий ему объективирующий процесс, лишающий экзистенцию подлинности существования, подводя мысль к плотскому, всё же оставляет это плотское без внимания со стороны экзистенциальной аналитики Dasein. Падение - слишком идеалистично даже вне морализаторской установки и религиозных коннотаций. Соскальзывание в этом отношении требует философии тела, в которой более преуспевают французские экзистенциалисты: «сознание, потяжелевшее и замирающее, проскальзывает к истоме, сравнимой со сном» [9, с. 403]. «Пора - это пространство человеческих отношений, которое более или менее гармонично и открыто вписывается в глобальную систему и в то же время допускает альтернативные, не принятые в этой системе возможности обмена» [10, с. 18]. Пора - это гимен или мета.
У Томаса Манна всё еще сохраняются отголоски упадочного гуманизма, у него тело преподносит себя как болезнь истлевания, которую рентген лишь предвосхищает, отчего слитость телесного и духовного задана по-нигилистически, через предчувствие/осознание человеческого удела. У Мориса Бланшо этот нигилистический аспект всей предшествующей философской культуры, получающий всё из ничего, отсутствует либо сведен к минимуму, поскольку Тома не останавливается перед сакральной реальностью небытия, обладающего очертаниями для чуткого глаза Ганса Касторпа, благоговеющего перед фигурой морибундуса. В том и дело, что Тома Темный ничего похожего не встречает там, куда оказывается можно соскользнуть, он не сталкивается с тем, что, оказывая противодействие, могло бы сохранить в нем гуманистическую иллюзию простоты и тождества его собственной субстанциализированной души. Он не сталкивается с чем-то, доступным феноменологическому высветлению. В конце концов, ему не мерещится никто из умерших и в спиритических сеансах он не участвует. Он ударяется только о непроницаемость себя, темного двойника, коим он, как Тома (tauma), и является, будучи своим собственным фантомом.
Заключение
Итак, насколько же банальным и химеричным представляется идеалистическое удвоение мира? В какой мере оно вообще еще может считаться идеалистическим? Эти вопросы ставит перед нами текст Мориса Бланшо «Тома Темный», вовлекающий читателя в проживание схоластически изощренных аберраций, претерпеваемых словом, воспринимаемых телом. Паучий облик прозревшей Анны есть лишь внешнее выражение этого обращения к схоластическому выверению реальности слова. Но в этот схоластический дискурс оказывается возможно проскользнуть лишь через натурфилософию первой главы.
бланшо эпитет письмо логос
Литература
1. Ницше Ф. К генеалогии морали / Ф. Ницше // По ту сторону добра и зла : соч. - М. : ЭКСМО-Пресс ; Харьков : Фолио, 1998, - С. 749-882.
2. Majorel J. Derrida et Starobinski, «critiques» de Blanchot? / J. Majorel // Traces. Revue de Sciences humaines. - 2007. - № 13. - URL: http://traces. revues.org/317
3. Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Ф. Ницше // По ту сторону добра и зла : соч. - М. : ЭКСМО-Пресс ; Харьков : Фолио, 1998, - С. 295-556.
4. Харт К. Нейтральная редукция : Темный Фома / К. Харт // Международный журнал исследований культуры. - 2017. - № 1 (26).
5. Blanchot M. Thomas 1'Obscur / M. Blanchot. - Mayenne : Gallimard, 1971.- 139 p.
6. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти. - СПб.: Ювента : Наука, 1999. - 606 с.
7. Бергсон А. Материя и память / А. Бергсон // Собр. соч. : в 4 т. - М. : Моск. клуб, 1992. - Т 1: Опыт о непосредственных данных сознания. Материя и память. - С. 157-316.
8. Binet L. La Septieme Fonction du langage / L. Binet. - Paris : Editions Grasset & Fasquelle, 2015. - 478 p.
9. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто : Опыт феноменологической онтологии / Ж. П. Сартр. - М. : Республика, 2004. - 639 с.
10. Буррио Н. Реляционная эстетика / Н. Буррио // Реляционная эстетика. Постпродукция. - М. : Ад Маргинем Пресс, 2016. - 216 с. - (Garage pro).
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
История вопроса. Попытки поэтических открытий, интерпретаций в изысканях исследователей-литературоведов, критиков. Родство "Слова о полку Игореве" с украинскими думами. Проблемы ритмики "Слова...". Звуковая инструментовка произведения-анализ текста.
научная работа [40,2 K], добавлен 26.11.2007Лингвистическая терминология; типы лексических значений: прямое и переносное. Лексические повторы: анафора и эпифора. Художественная трансформация слова, слова-символы в поэтическом тексте. Полисемия (многозначность), метонимия, синонимы и антонимы.
творческая работа [43,0 K], добавлен 18.12.2009Теоретическое описание эпитета и его разновидностей. Функции эпитета в тексте. Образно-выразительные средства, применяемые в произведениях литературы. Характеристика эпитета в произведениях А. Ахматовой. Их семантическая и грамматическая характеристика.
курсовая работа [36,3 K], добавлен 27.11.2009Понятие постмодернистского мышления и особенности его реализации в литературном тексте, литературная критика в романе "Священной книге оборотня". Анализ парадигмы И. Хассана. Принципы мифологизирования реальности в романе как отражение специфики мышления.
курсовая работа [69,1 K], добавлен 18.12.2012Литературные памятники: от мифологии - к духовной жизни гражданина, рождение древнегреческой драмы и театра. Рассмотрение конкретных примеров из античной мифологии, которые и сегодня часто используются как крылатые слова и фразеологические выражения.
контрольная работа [21,1 K], добавлен 08.07.2010Русь времени "Слова о полку Игореве". События русской истории, предшествование походу князя Игоря Святославича Новгород-Северского. Время создания "Слова о полку Игореве", вопрос о его авторстве. Открытие "Слова о полку Игореве", его издание и изучение.
реферат [2,6 M], добавлен 20.04.2011Интертекстуальность как категория художественного мышления, ее источники и подходы к изучению. Интертекстуальные элементы, их функции в тексте. "Чужая речь" как элемент структуры текста романа Т. Толстой "Кысь": цитатный слой, аллюзии и реминисценции.
курсовая работа [63,9 K], добавлен 13.03.2011А. Куприн — мастер слова начала XX века, выдающийся писатель. "Гранатовый браслет" — печальная повесть-новелла о любви маленького человека, о жизнелюбии и гуманизме. Звуковой символизм отрывка: интонация, ритм, тон. Образность художественного текста.
реферат [150,5 K], добавлен 17.06.2010Место композиционных вставок в структуре летописи "Слово о полку Игореве", его патриотическое настроение и связь с народным творчеством. Понятие времени и пространства в произведении, историческая дистанция во времени как характерная черта "Слова".
реферат [29,4 K], добавлен 17.06.2009Краткая характеристика "Слова о полку Игореве" как литературного и исторического памятника, предположения и теории насчет его авторства, исследование доказательств. Патриотический настрой и знания автора летописи, оценка ее значения в литературе.
сочинение [6,5 K], добавлен 14.11.2011Символистский период творчества В. Шершеневича. Этапы в становлении поэтического языка: реализм, символизм и футуризм. Существенный недостаток работы "Футуризм без маски". Основные аспекты в слове. Идея противостояния слова-понятия и слова-образа.
реферат [28,7 K], добавлен 08.03.2011Обставини відкриття, зв’язки "Слова" з києво-руською літературою, з народною творчістю. Сутність двоєвір’я як зустрічі двох світоглядів. Питання двоєвір’я в "Слові о полку Ігоревім". Язичницька міфологія, яка увічнена в поетичній образності "Слова".
дипломная работа [90,4 K], добавлен 03.11.2010Понятие концепта и концептосферы. Слово как фрагмент языковой картины мира, как составляющая концепта. Становление смысловой структуры слова "любовь" в истории русского литературного языка. Любовь в философском осмыслении в поэзии А. Ахматовой.
дипломная работа [92,5 K], добавлен 29.01.2011Ознакомление с ироническим описанием жизни подпоручика, которого не существовало материально, и поручика, объявленного умершим (неожиданно для него самого) в рассказе Ю. Тынянова "Подпоручик Киже". Соотношение слова и образа в данном произведении.
реферат [26,8 K], добавлен 28.06.2010Языковая картина мира как лингвокультурологический и стилистический феномен. Эстетическая функция слова. Роль эпитетов в формировании авторской картины мира. Анализ репрезентации авторской картины мира через прилагательные в сказках Оскара Уайльда.
дипломная работа [85,6 K], добавлен 27.12.2016Характеристика лексики у романі В. Лиса "Соло для Соломії" за тематичними групами. Роль просторічної лексики у художньому стилі. Відображення живого народного слова. Вживання у романі елементів суржикового мовлення, вульгаризму, слова інвективної лексики.
реферат [23,3 K], добавлен 20.05.2015Аспекты изучения семантики текста. Роль индивидуальных переживаний автора в его творчестве. Особенности творчества В.В. Маяковского. Л. Брик в жизни поэта. Композиция и звучание, стилистические фигуры, метафоры, лексический состав, ритмика стихотворения.
курсовая работа [26,6 K], добавлен 18.07.2014Особенности художественного текста. Разновидности информации в художественном тексте. Понятие о подтексте. Понимание текста и подтекста художественного произведения как психологическая проблема. Выражение подтекста в повести "Собачье сердце" М. Булгакова.
дипломная работа [161,0 K], добавлен 06.06.2013Семантическое словообразование в литературном языке XIX века. Понятие его сущности и специфики языка художественного текста. Определение случаев семантической деривации в области имен существительных в романе "Евгений Онегин". Анализ выявленных дериватов.
реферат [25,0 K], добавлен 11.05.2011Значение "Слова о плъку Игоревђ, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова" для филологических наук. История создания и автор "Слова о плъку Игоревђ, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова". Единственное, двойственное множественное число.
курсовая работа [25,4 K], добавлен 02.05.2006