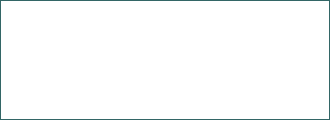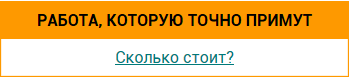Россия между Западом и Востоком: к проблеме культурного синтеза
Утверждение самостоятельности культурных ценностей античного и западного мира и их влияние на позднейшую историю. Анализ взаимоотношений между культурами. Амбивалентность в отношениях между Россией и Западом. Следствия открытия значимости Востока.
| Рубрика | Культура и искусство |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 08.04.2020 |
| Размер файла | 149,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Таким образом, единство со скифским элементом русского человека позволяет России выдерживать транслируемую Западом разрушительную силу модерна. Собственно, именно это и попытались объяснить евразийцы. Однако евразийцы с их восточной темой в России не были одинокими и даже не были первыми. Философской и публицистической мысли евразийцев предшествует практика русского искусства рубежа XIX-XX веков. Задолго до того, как содержание коллективного сознания русских будет осознано на уровне философской мысли, оно станет предметом искусства. Любопытно отметить, что многие из русских художников этого времени интуитивно уже подходили к тем выводам, к которым на философском уровне придут философы и мыслители, называемые евразийцами. Собственно, такую близость уже демонстрирует западник А. Блок. Более решительную позицию занимал В. Хлебников.
Некоторые русские футуристы, в том числе, В. Хлебников, настаивали на том, что футуризм впервые появился именно в России, а не в Италии, что, наверное, не совсем верно. Но дело даже не в этом, а в том, что русский футуризм вообще подчеркивал свое восточное и потому антизападное начало. Утверждение этой восточности было продемонстрировано неприятием находящегося в 1914 году в России и читавшего в Москве лекции о футуризме Т. Маринетти. В пику Т. Маринетти русские футуристы организовали вечер, оппозиционный по отношению к надменному, но, как они считали, провинциальному Западу. На этом вечере Б. Лившиц читал доклад «Итальянский и русский футуризм и их взаимоотношения». Вот как пишет о нем В. Марков: «В своем докладе Б. Лившиц подчеркивал, что итальянский футуризм утверждает себя во всех областях искусства в качестве нового канона, тогда как русское будетлянство избегает каких-либо положительных формулировок. У итальянцев есть программа, у русских - конкретные достижения. В конце своего полуторачасового доклада Б. Лившиц обозначил Запад и Восток как две совершенно разные эстетические системы. Россия - органическая часть Востока, в доказательство чего докладчик указал на связь русской иконописи с персидской миниатюрой, русского лубка - с китайским, русской частушки - с японской танка. Но гораздо существеннее другое - теснейшая связь русских с художественным материалом, исключительное его чувствование, отсутствующее на Западе, - именно это, по словам Лившица, главнейший признак надвигающегося кризиса европейского искусства, заканчивался доклад призывом пробудиться и признать превосходство России над Западом» (37).
Как свидетельствует написанное под впечатлением прочитанных Т. Маринетти лекций письмо В. Хлебникова Н. Бурлюку, вождя итальянского футуризма поэт ассоциировал с грибоедовским «французиком из Бордо». Мысленно обращаясь к Т. Маринетти, В. Хлебников говорит: «Вы, приятель, опоздали приехать в Россию, вам нужно было приехать в 1814 году. Сто лет ошибки в рождении человека будущего» (38).
Однако брюзжание поэта не ограничивалось претензиями на футуристическое первородство. В факте неприятия Т. Маринетти проявилось представление поэта о своей восточной идентичности. В. Хлебников противопоставлял Россию Западу, отождествляя ее с Востоком - «здесь Восток бросает вызов надменному Западу,,,» (39). Поэт увлекается, и дело доходит до того, что он прогнозирует схватку с романо-германским миром. («Я уверен, что некогда мы встретимся при пушечных выстрелах в поединке между итало-германским союзом и славянами на берегах Далмации» (40)). Конечно, после таких оскорблений Т. Маринетти обиделся и после возвращения в Италию заявил, что русские «будетляне» искажают «истинный смысл великой религии обновления мира при помощи футуризма» (41).
Конечно, на этих крайних высказываниях Б. Лившица и В. Хлебникова по поводу Запада сказываются настроения времени. Позднее все это будет пересматриваться, переоцениваться и критически осмысливаться. Прежде всего, самими футуристами. Так, в вышедшей 1933 году своей книге мемуаров Б. Лившиц об этих футуристических перехлестах пишет так: «И мне, охваченному нелепейшим приступом своеобразного «гилейского» национализма, в котором сквозь ядовитый туман бейлисиады пробивались первые ростки расовой теории искусства, рисовалась такая картина: навстречу Западу, подпираемые Востоком, в безудержном катаклизме надвигаются залитые ослепительным светом праистории атавистические пласты, дилювиальные ритмы, а впереди, размахивая копьем, мчится в облаке радужной пыли дикий всадник, скифский воин, обернувшись лицом назад и только полглаза скосив на Запад - полутораглазый стрелец» (42). Таким образом, утверждаясь в своей восточной идентичности, Б. Лившиц и В. Хлебников демонстрировали свое антизападничество. Все свидетельствует о том, что, наконец-то, пришло время России в своем подсознании разобраться. запад восток культурный ценность
Как следствие этой интенции возникали интересные и отнюдь не однозначные следствия открытия значимости Востока. Восток предстал в образе фрейдовского Оно и, следовательно, не мог не пугать и не мог не отталкивать. Если уж А. Блок почти в экзальтации признается в своей скифской родословной, то это не может не настораживать. Утверждая близость к скифству, свою скифскую идентичность, поэт как бы преодолевает некоторый барьер, ощущая, что он идет против течения. Что уж говорить о В. Соловьеве, которого А. Блок боготворил. Между тем, восприятие Востока у этого выдающегося русского философа было как раз обратным А. Блоку. Таким образом, скифство (читай варварство) пугало не только европейца, но и самого русского. Таким образом, демонстрацию скифства, т.е. подчеркивание своего восточного лица русские художники использовали для того, чтобы подчеркнуть свою независимость, самостоятельность по отношению к Западу.
Стихотворение А. Блока «Скифы» написано в 1918 году, когда уже была позади первая мировая война и когда отношения между Россией и Западом осложнились, а чувства русского по отношению к Западу стали амбивалентными. Выходя из орбиты европейского притяжения, Россия оказывается чем-то неопределенным, загадочным, короче говоря, Сфинксом. Возникло чувство отталкивания, даже враждебности к Западу. «Россия - Сфинкс. Минуя и скорбя, / И обливаясь черной кровью, / Она глядит, глядит, глядит в тебя, / И с ненавистью, и с любовью!..».
Можно ли точнее выразить раздвоенность русского с его скифской («черной») кровью, стремящегося стать западником? Но его любовь к Западу смешивается с ненавистью. Здесь очень точен образ Сфинкса, т.е. тайны, загадки, которую следует разгадать. А она заключается в особости России. Не существует языка, на котором можно было бы прочитать присущий ей смысл. Приходится обращаться к языкам других культур. Но эти языки еще не позволяют выявить суть России, прасимвол русской культуры. Так Россия и продолжает оставаться Сфинксом.
В этом стихотворении А. Блока звучит также мотив известной русской отзывчивости, способности перевоплощаться в другие миры («Мы любим все - и жар холодных числ, / И дар божественных видений, / Нам внятно все - и острый галльский смысл, / И сумрачный германский гений…»). Россия еще сохраняет любовь к Западу, ее идентичность - это западная идентичность. Но эта определенность идентичности уже утрачивается. Россия становится Сфинксом, т.е. образом, подчеркивающим смысл пограничья. Знает ли Россия сама, утрачивая западную идентичность, что она такое? Этот возможный распад российской идентичности как западной идентичности, помысленный поэтом, затем будет иметь продолжение. Тут-то и возникает проблема Востока для России как альтернатива западной идентичности.
Но что очень важно, так это то, что на стихотворении А. Блока лежит печать отношения к Востоку не только П. Чаадаева, но и В. Соловьева. Стихотворению «Скифы» предпослан эпиграф из В. Соловьева «Панмонголизм! Хоть имя дико, / Но мне ласкает слух оно». В 1894 году В. Соловьев, а он был, как известно, не только философом, но и поэтом, написал стихотворение «Панмонголизм», откуда А. Блок и взял процитированные нами строки из его стихотворения «Скифы» в качестве эпиграфа. В отношении к Востоку В. Соловьева многое определяют его размышления об общем состоянии христианского мира. Эти размышления во многом носили мистический характер. Как и А. Блок, В. Соловьев всячески подчеркивает мысль о враждебности безликого Востока. Восток для него - «рой пробудившихся племен», «народ безвестный и чужой» и опять же, как потом будет у А. Блока, «тьмы полков». «Как саранча неисчислимы / И ненасытны, как она, / Нездешней силою хранимы,/ Идут на север племена» (43).
Но почему Восток - «безвестный и чужой» надвигается на Русь? По мнению поэта, это - возмездие. Это расплата за то, что христианский, а в данном случае русский мир забыл «завет любви», т.е. христианский идеал. Однажды это уже произошло в Византии. Все в этом мире связано. Когда «остыл божественный алтарь» в Риме втором, это спровоцировало «рой пробудившихся племен», варваров на Востоке, что привело к его падению. Но забвение «завета любви» может привести и к падению Рима третьего, т.е. Руси.
Привлекая некоторые суждения и обобщения философов и художников рубежа XIX-XX веков, мы пока констатировали только две фазы развертывающегося в это время культурного синтеза. Первой фазой был возникающий в этот период (хотя точнее было бы сказать - продолжающийся) интерес к Востоку, который имел место в эпоху романтизма. Развитие этого комплекса естественно способствовало большему осознанию национальной самостоятельности, спровоцировавшему новые отношения с Западом. Ощущение общности с Востоком породило отталкивание России от Запада, что не замедлило проявиться и в высказываниях художников, и в их творчестве. Однако на этой вспыхнувшей конфликтности России и Запада процесс не заканчивается.
Проблема заключается в том, что несмотря на нарастающее стремление преодолеть европеизм, это все равно бы не удалось сделать, поскольку речь в данном случае идет о единстве христианского мира, к которому приобщена и Россия. И вот здесь пришла пора понять, какой смысл мы вкладываем в Восток и что вообще под ним следует подразумевать, чего мы пока не касались. Имеется ли в данном случае в виду под Востоком исламский мир, Китай, Индия, а также и склонная присоединять себя в это время к этому миру Россия? Для ответа на этот вопрос обратимся к Л. Карсавину. Размышляя в связи с расширением моды в России на Восток, Л. Карсавин склонен под Востоком подразумевать все, что в христианский культурный мир не входит.
В таком понимании Востока географические границы отступают на задний план. Все разнообразие человечества Л. Карсавин сводит к двум культурам. По мнению Л. Карсавина, именно в христианском мире имел место синтез эллинизма, иудейства и восточных религий с религиозностью Запада («В своем непреходимо-ценном язычестве Греции, Рима, Азии и варварского Запада переживает себя и завершает себя в христианстве, которое делает органическим целым объемлемый его идеею мир» (44). Что же касается Востока, то это - «земли ислама, буддийской культуры, индуизма, даосизма, древних натуралистических культов эллинской, римской и варварских религий» (45). Поэтому когда мы будем говорить о моде на Восток в России рубежа XIX-XX веков, то под ним следует подразумевать именно эту пестроту обычно вкладываемого в понятие «Восток» содержания.
Определив содержание понятия «Восток», можно вновь вернуться к рефлексии В. Соловьева и попытаться понять не только его идею всеединства и объединения народов и церквей, т.е. западной и восточной ветвей христианства (католичества и православия), но и весьма отличающуюся от многих существовавших в тот период установок по отношению к Востоку позицию. В. Соловьев преодолевал поверхностные настроения и моду, усматривая в Востоке именно то, что христианскому миру в нем было чуждо. Философ вообще пророчил надвигающуюся на Запад очередную в истории восточно-монгольскую опасность. Под Востоком он подразумевал именно монгольскую стихию (46).
По мнению философа, России грозит не Запад, а панмонголизм, а его распространение будет расплатой за измену Христу Запада, в чем и улавливается усвоенная В. Соловьевым славянофильская традиция. Поэтому перед монгольской угрозой напряжение, возникшее между Россией и Западом, не кажется таким уж существенным. Его можно и нужно преодолеть. По мысли философа, с Западом необходимо объединяться, а не разъединяться. На наш взгляд, эта точка зрения является более конструктивной, нежели возникшая позднее и оппозиционная по отношению к Западу евразийская точка зрения.
Главное для В. Соловьева все же оказывается грядущее и неизбежное столкновение с Востоком, в результате которого ценности, сформированные христианством и, в частности, личностное начало, могут исчезнуть. Таким образом, на ином уровне В. Соловьев в движении к культурному синтезу намечает новую фазу. На этой фазе существенным будет также разъединение, но уже не между Россией и Западом, а между христианским и нехристианским миром, т.е. Востоком. Собственно, преодоление этого разъединения выходит за хронологические рамки рассматриваемого периода и является актуальным вплоть до сегодняшнего дня. Здесь, видимо, намечается новая ступень культурного синтеза, т.е. активная ассимиляция восточных ценностей, которая была актуальной на протяжении всего ХХ века, но заявила о себе с особой силой уже на рубеже XIX-XX веков. Чтобы преодолеть грозящую с Востока опасность, необходимо ощутить глубокую связь с Западом, и способствовать культурному синтезу Востока и Запада, способному преодолеть столкновение цивилизаций.
Что касается позиции В. Соловьева, то, прогнозируя столкновение цивилизаций (тема, ставшая актуальной на все последующее время), философ в очередной раз после Гете призывает к более глубокому пониманию нехристианского мира. Еще в 1890 году в журнале «Русское обозрение» он публикует статью «Китай и Европа», в которой ссылается на выступление в Париже на заседании Географического общества одного китайского генерала и признается, что оно его поразило. По мнению русского философа, это выступление выражало суть не осознаваемого, как он выражается, на Западе исторического момента («Предо мною был представитель чужого, враждебного и все более и более надвигающегося на нас мира» (47).
Речь генерала заставила задуматься над приближающимся возможным столкновением цивилизаций. «Мы готовы и способны - говорил китайский генерал - взять от вас все, что нам нужно, всю технику вашей умственной и материальной культуры, но ни одного вашего верования, ни одной вашей идеи и даже ни одного вашего вкуса мы не усвоим. Мы любим только себя и уважаем только силу. В своей силе мы не сомневаемся: она прочнее вашей. Вы истощаетесь в непрерывных опытах, а мы воспользуемся плодами этих опытов для своего усиления. Мы радуемся вашему прогрессу, но принимать в нем активное участие у нас нет ни надобности, ни охоты: вы сами приготовляете средства, которые мы употребим для того, чтобы покорить вас» (48).
Комментируя это выступление китайского военного, В. Соловьев провел параллель между ситуацией конца XIX века и ситуацией из удаленных исторических эпох. Он говорит, что европейцы приветствовали речь китайского генерала с таким же легкомысленным восторгом, с каким иудеи маккавейской эпохи впервые приветствовали римлян. Однако, как говорит В. Соловьев, в Европе есть мыслящие люди, «которые смотрят со вниманием и опасением на грозную тучу, надвигающуюся с дальнего Востока» (49). Суждения русского философа объясняются страхом перед утратой того, что К. Ясперс связывает с возникновением осевого времени с его гуманистическими ценностями.
Таким образом, отношение к Востоку в России было не столь однозначным. От решительного утверждения своей восточной идентичности, что представляло для русской культуры совершенно новое явление, до ощущения нарастающей опасности от активизирующегося Востока, враждебного по отношению не только к Западу, но и к России как части Запада. Естественно, что эта ускользающая идентичность русского, его раздвоение между Западом и Востоком были актуальной проблемой рубежа XIX-XX веков.
Исходя из сказанного, можно утверждать, что изучение периода в истории искусства, связанного с рубежом XIX-XX веков, актуально тем, что уже тогда, несмотря на вспыхивающее стремление утвердить самобытность и противопоставить тому, что еще недавно было своим, намечалось движение к синтезу, понимаемому как синтез культур. Последующая история человечества развертывается в направлении критики идеи, высказанной в начале ХХ века Шпенглером, а именно, идеи неспособности какой-либо культуры понимать другие культуры. Эта идея Шпенглера, которая, кажется, подтверждается намечающимся в истории столкновением между цивилизациями, тем не менее, должна быть преодолена. Средством преодоления как раз и оказывается культурный синтез. Для разрешения этой задачи в комплексе гуманитарных дисциплин возникает специальная наука о культуре. Между тем, идея культурного синтеза была выдвинута еще в 20-е годы Э. Трельчем (50).
Мы коснемся лишь одного аспекта культурного синтеза, связанного исключительно с искусством. Развертывающийся в искусстве этого времени культурный синтез прежде всего связан с обращающим на себя внимание на рубеже XIX-XX веков символизмом как основным художественным направлением, утверждение эстетики которого оказывалось весьма конфликтным, затрагивающим отношения между поколениями. Обращает на себя внимание в этом смысле пассеизм символизма, который затем будет подвергнут критике столь заметным и эпатажным футуризмом. Символисты раздвинули границы исторического сознания, устремляясь к славянской древности, архаике, отчего и распространилась мода и на скифство, и на Восток вообще. Кстати, в 20-е годы существовала целая группа поэтов, называвшаяся «Скифы», в которую входили А. Белый, А. Ремизов, Е. Замятин, М. Пришвин, Н. Клюев, С. Есенин и другие. Например, представители этой группы пытались осмыслить революцию как «скифскую» революцию.
Для осознания атмосферы рубежа XIX-XX веков показательно также творчество Н. Рериха, которое было близко символистам, и символисты очень хотели видеть художника выразителем своих идей. Тем не менее, Н. Рерих пытался все же сохранить дистанцию и самостоятельность. В начале ХХ века полотна Н. Рериха выставлялись в Вене, Берлине, Париже, Милане, Венеции и др. В его живописи оживала древняя языческая Русь. Комментируя свои северные пейзажи, художник пишет: «Все ищем красивую древнюю Русь» (51).
Пытаясь ощутить дух древней Руси на полотнах Н. Рериха, С. Маковский всматривается в излюбленные сюжеты картин художника. «Ночью на поляне, озаренной заревом костра, сходятся старцы - пишет С. Маковский - Горбатые жрецы творят заклятия в заповедных рощах. У свайных изб крадутся варвары. Викинги, закованные в медные брони, с узкими алыми щитами и длинными копьями, увозят добычу на ярко раскрашенных ладьях. Бой кипит в темно-лазурном море. Деревянные городища стоят на прибрежных холмах, изрытых оврагами, и к ним подплывают заморские гости. И оживают старые легенды, сказки; вьются крылатые драконы; облачные девы носятся по небу; в огненном кольце томится златокудрая царевна-змиевна; кочуют богатыри былин в древних степях и пустынях. И снова - Божий мир; за белыми оградами золотятся кресты монастырей; несметные полчища собираются в походы; темными вереницами тянутся мужики, воины-копейщики; верхами скачут гонцы. А в лесу травят дикого зверя, звенят рога царской охоты» (52).
Сравнивая полотна Н. Рериха с живописью примитивиста П. Гогена, С. Маковский однако говорит, что П. Гоген - сын юга, влюбленный в солнечную наготу тропического дикаря. Что касается Н. Рериха, то он - сын Севера. По мнению критика, Н. Рерих не просто извлекает из-под христианства славянское язычество. Он вообще притупляет чувство этнического и национального. Это вообще древний человек, «первобытный варвар земли» (53). Пытаясь обобщить многочисленные полотна Н. Рериха, С. Маковский констатирует излюбленные сюжеты его живописи. «Чередуются замыслы. Сколько их! В длинном ряде картин, этюдов, рисунков, декоративных эскизов воскресает забытая жизнь древней земли: каменный век, кровавые тризны, обряды далекого язычества, сумраки жутко-таинственных волхвований; времена норманнских набегов, удельная и Московская Русь» (54).
Пытаясь понять несходство между собственным творчеством и творчеством Н. Рериха, А. Бенуа говорит, что несмотря на свой глубокий скептицизм, он, однако, возлагает надежды на прогресс. Он убежден, что все еще поддается исправлению. «Напротив того, - пишет он - Рериха тянет в пустыню, в даль, к первобытным людям, к лепету форм и идей. Он утверждает всем своим творчеством, всеми своими вдохновениями, что благо в силе, что сила в упрощении и просторе - и что нужно начинать с начала» (55). Так, обозначается обращающая на себя внимание тяга Н. Рериха к архаике.
В этих устремлениях Н. Рерих не был одиноким. В своей статье, опубликованной в журнале «Аполлон», М. Волошин пытается эту устремленность к архаике обнаружить сразу у трех художников: Рериха, Богаевского, Бакста («Все трое связаны одной мечтой об архаическом» (56). По мнению М. Волошина, любовь к архаическому была создана откровениями археологических раскопок конца XIX века. М. Волошин называл Н. Рериха художником каменного века, поскольку тот из четырех стихий пытается познать лишь землю, а в земле - костистую ее основу - камень «И во всем остальном растущем, поющем, сияющем и глаголящем мире Рерих видит только то, что в нем слепого, немого, глухого и каменного. Небо для него становится непрозрачным камнем, до красна иногда во время закатов накаленным, и под тускло-багровым сводом он мечет тяжкие каменные облака» (57).
А. Гидони отмечал, однако, не только интерес Н. Рериха к отечественной праистории, но и к скифской стихии, без чего этой праистории не существует. «Рерих шел от «варягов», жадно воспринимая восточную красоту, откуда бы она ни была принесена, - из эмалевой Византии, от монгольских степей или «заманчивым индийским путем» (58). У Н. Рериха отсутствует отрицательная оценка монголов. Цитируя высказывание, связанное с враждебным отношением к татаро-монгольской стихии, А. Гидони пишет, что для Н. Рериха это немыслимо, ибо художник знает «сколько прекрасных и тонких украшений Востока внесли на Русь монголы» (59).
Сам Н. Рерих пишет: «Из татарщины, как из эпохи ненавистной, время истребило целые страницы прекрасных и тонких украшений Востока, которые внесли на Русь монголы. О татарщине остались воспоминания только как о каких-то мрачных погромах. Забывается, что таинственная колыбель Азии вскормила этих диковинных людей и повила их богатыми дарами Китая, Тибета, всего Индостана. В блеске татарских мечей Русь вновь слушала сказку о чудесах, которые когда-то знали хитрые арабские гости Великого Пути и греки» (60). В своей статье 1914 года «Радость искусству» Н. Рерих утверждает, что кроме установленной всеми учебниками истины может существовать и иная точка зрения на присутствие татар на Руси. Таким образом, Н. Рерих опережает и евразийцев, и Л. Гумилева.
В связи с символизмом любопытно отметить следующий факт. Символисты никогда не относились к поэзии как к чистому искусству. Они мыслили себя демиургами новой культуры, приходящей на смену старой, умирающей культуре. Именно поэтому рефлексия о культуре в России, пожалуй, начинается с символизма. Все они рассуждали о культуре. И именно символисты, ощущая необходимость в контактах с разными культурами, сделали значительный вклад в то, что мы называем культурным синтезом.
Иногда утверждают, что русский символизм - порождение западного символизма. Констатируется зависимость русского символизма от западного романтизма. Здесь все справедливо: и то, что символизм продолжает традицию романтизма, и то, что русские символисты много заимствовали у западных символистов. Но необходимо учитывать и другое, а именно, цивилизационно-культурный контекст.
Тесная связь русской культуры с европейским миром, о чем много размышляли философы-евразийцы, а их рефлексию нельзя не учитывать, хотя не обязательно с ней и соглашаться, и в самом деле диктует специфическую ситуацию культурного синтеза. Уникальность этого синтеза нельзя сбрасывать со счетов. Художественный синтез развертывается в уникальном контексте более тесных связей России с Востоком, нежели это подчас имеет место на Западе. Это обстоятельство и следует изучать. Пытаясь осознать то, что происходило в искусстве этого времени, А. Гидони, посвящая свою статью Н. Рериху, отмечает «Мы все это чувствуем, мы все присутствуем при том, как варится амальгама даров Запада и Востока, и еще не знаем, создается ли чудо, или случайный сплав» (61).
Любопытно в связи с этим отметить, что, ориентируясь на Восток, западная, но, в том числе, и русская культура открывали свои собственные, но уже забытые ценности. Например, духовные ценности средневековой Руси, но и более ранние - языческие, о чем мы сказали в связи с Н. Рерихом. Любопытно, что интерес в русском символизме к прошлому возникает как следствие конфронтации между «отцами» и «детьми», т.е. символистами. Старшее поколение упрекало символистов в том, что они пренебрегают традицией, прошлым. Тогда в пику «отцам» символисты демонстрируют любовь к прошлому, но не к более близкому историческому прошлому, а к национальной древности, к истокам истории, к Средневековью.
Имея в виду эту дискуссию между отцами и детьми, А. Белый от имени «детей» отвечал «отцам»: «Вы нас упрекаете в беспринципном новаторстве, в разрушении устоев и догматов вечной музейной культуры; хорошее же, - будем «за» это все; но тогда подавайте настроенный строй, - не прокисший устой, не штамп, а стиль, продуманный заново, не скепсис, а - критицизм; отдайте нам ваши музеи, мы их сохраним, вынеся из них Клеверов и внеся Рублевых и Врубелей» (62). Так, в пику отцам, не заметившим и не оценившим Фета, Тютчева, Боратынского, символисты делают их своими кумирами.
Открытие символистами архаики продолжается в авангарде, открывающем восточное и африканское искусство, славянскую мифологию, русский фольклор, древнерусскую иконопись, первобытное искусство, древнюю скифскую скульптуру, каменных баб южнорусских степей, полинезийское искусство и искусство мексиканских индейцев, лубок и народный орнамент (63). Все это будет названо проникающим в поэзию, живопись и музыку примитивизмом. Но вся эта получившая в футуризме и вообще в авангарде традиция сформировалась именно в символизме.
Например, В. Брюсов отмечал особенность Вяч. Иванова, связанную со стремлением «в чужом находить свое». Но это является вообще характерной особенностью символистского пассеизма. «То изречения Библии, то античные мифы (которых, кстати сказать, он показывает себя истинным знатоком, - пишет В. Брюсов о Вяч. Иванове - то воспоминания о великих созданиях музыки или пластики, то образы, явившиеся поэту во время его скитаний по разным странам Европы и вокруг Средиземного моря, то откровения индийской мудрости - поочередно дают ему сюжеты для его стихов, позволяя в чужом находить свое» (64).
Характеризуя поэзию К. Бальмонта, В. Брюсов пишет, что тот стремится слиться то «с холодной и жесткой яркостью Мексики, то с безмерностью Ассирии, то с практической мудростью Китая» (65). Любопытно, что А. Белый проявлял огромный интерес к Востоку. В своих мемуарах он вспоминает себя «юношей, заинтересовавшимся Востоком», посещающим кружок теософов (66). На страницах его мемуаров мы находим также признание о том, что он читал книгу Блаватской «Из пещер и дебрей Индостана». Там же можно найти упоминания о его знакомстве с «Упанишадами» («Впечатление от «Упанишад» взворотило все бытие» (67). Но если ставить вопрос о причинах интереса к Востоку, то А. Белый объяснял это так. Он ощущал свою чуждость старому быту, отцовским традициям «… Я выпадал, так сказать, из всех форм быта буржуазной культуры; а культуры, которую я мог бы противопоставить ей, у меня не было» (68). Именно в этом состоянии утраты равновесия интерес к Востоку позволял ему заполнить окружающую его пустоту «…Интерес к Востоку, будирование европейской цивилизации, - признается он - это был беспомощный вызов по отношению к тому, что должен бы я предпринять…» (69).
Когда знакомишься с поэзией В. Хлебникова, начинаешь отдавать отчет в прорвавшейся в искусство стихии хаоса. В его поэме «Ладомир», написанной уже в 20-е годы, рядом оказываются разные религии, науки, материки, боги, художники, представляющие многие культуры и т.д. «Туда, туда, где Изанаги / Читала «Моногатори» Перуну / А Эрот сел на колени Шанг-ти, / И седой хохол на лысой голове / Бога походит на снег, / Где Амур целует Маа - Эму, / А Тиэн беседует с Индрой, / Где Юнона с Цинтекуатлем / Смотрят Корреджио / И похищены Мурильо, / Где Ункулункулу и Тор / Играют мирно в шашки, / Облокотясь на руку, / И Хокусаем восхищена / Астарта, - туда, туда!» (70).
Правда, у В. Хлебникова такой разброс символов и образов - не самоцель, призванная выразить стихию хаоса, а совсем наоборот, синтез, понимаемый в планетарном или, как сегодня говорят, глобализационном выражении. Данная поэма написана под воздействием идей революции, а, следовательно, в ней звучит идея объединения самых разных народов и культур, т.е. как раз преодоления несвободы и хаоса. Это оптимистическое и утопическое произведение. Но оно интересно еще и в том отношении, что в нем реконструируются разные временные контексты. Некогда имевшие место в разных исторических эпохах явления у В. Хлебникова представлены в своей одновременности.
По сути, культурный синтез, как он представлен у В. Хлебникова, повертывается монтажом разных культур, в том числе, и угаснувших, но существующих одновременно. Это свидетельствует о неприятии столь категорично утверждаемого с эпохи раннего модерна, т.е. Просвещения принципа линейности в историческом времени. Этим, в частности, объясняется пристрастие В. Хлебникова к такой разновидности организации произведения, как фрагмент или отрывок, что опять-таки делает актуальной поэтику открытого произведения, о которой потом будет позднее писать У. Эко и которая в эстетике ХХ века будет иметь значительный резонанс.
В. Хлебников, как и многие представители авангарда, исключал построение произведения, ограничиваясь лишь сюжетом. Связи между элементами он пытался обнаружить на ином уровне. Только в этом смысле понятно его пристрастие к фрагменту. Как отмечает прекрасный знаток русского футуризма В. Марков, «излюбленным жанром Хлебникова был жанр отрывка; крупные произведения создавались сложением мелких, «нанизыванием» фрагментов без всякого соблюдения традиционной композиции» (71). Но это тоже восточная традиция.
Можно сколь угодно много говорить об интересе в России к Востоку, моде на Восток, но все это внешние факторы развертывающегося процесса. На более глубоком уровне влияние Востока может просматриваться лишь в тех сдвигах, что происходят в поэтике. Как свидетельствует В. Иванов, в первой половине ХХ века мировая поэзия отказывается от своих традиционных форм, пытаясь найти опору в неевропейских традициях» (72). Так, отмечается, что в новом искусстве художник не имеет одного стиля, как это имело место в искусстве раньше.
Например, делая такое обобщение, А. Кребер в качестве примера ссылается на творчество П. Пикассо, владевшего стилями разных времен и культур. А. Кребер полагает, что множественность стилей оказывается существенным признаком искусства ХХ века. На основании этого наблюдения А. Кребера В. Иванов утверждает, что у многих художников истекшего столетия имеет место монтаж целых культур. Предшественниками использования такого приема для В. Иванова оказываются Гете и Пушкин. Уже А. Пушкин умел перевоплощаться в стиль любой культуры и любого времени, как он это делает, например, в своем стихотворении «Подражание Корану». Но с начала ХХ века подобный протеизм в искусстве приобретает новое качество, которое как раз и выражает в своем творчестве П. Пикассо.
О П. Пикассо в связи с протеизмом художника и умением перевоплощаться в разные художественные стили, эпохи и культуры, в том числе, неевропейские, архаические и т.д. много написано. В частности, об этом подробно и глубоко написано у Х. Зедльмайра, представляющего П. Пикассо художником, отчасти продолжающим традицию романтизма. Х. Зедльмайр отмечает остроумную игру П. Пикассо с формами прошлого и настоящего в произвольных комбинациях и деформациях. В этом смысле П. Пикассо, по мнению известного искусствоведа, предстает «образцово-показательной фигурой нашего времени» (73). Собственно, стремление отождествиться с чужой культурой, вести повествование от имени представителя другой культуры имеет своим истоком именно романтизм, влияние которого в искусстве на рубеже XIX-XX веков ощущается. Не случайно в это время особенно популярны А. Пушкин и М. Лермонтов, творчество которых несет на себе печать романтизма в его западных формах.
Об интересе к Востоку М. Лермонтова свидетельствует, например, такое его высказывание в беседе с А.А. Краевским. «Я многому научился у азиатов, - сказал он - и мне бы хотелось проникнуть в таинство азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов и для нас еще мало понятны. Но поверь мне, там, на Востоке, - тайник богатых откровений» (74).
Конечно, открытие Востока произошло, прежде всего, на Западе. Формула оптимальной ассимиляции восточной культуры связана с именем Гете. Он доказывал, что в художественных формах и образах восточного искусства нужно видеть не экзотику, а выражение духа самобытной и совершенно отличной от античной культуры. Этот переход от экзотики к постижению духа культуры в целом и искусства как выражение этого духа проделан А. Пушкиным и М. Лермонтовым. Так, например, А. Пушкин быстро прошел стадию восточного экзотизма, демонстрируя то, что И. Брагинский называет «западно-восточным» литературным синтезом (75). Воспользуемся некоторыми наблюдениями превосходного исследователя. За частое обращение к восточной поэзии молодого А. Пушкина называли даже именем выдающегося иранского поэта Саади - «нашим юным Саади». Как известно, своей романтической поэме «Бахчисарайский фонтан» А. Пушкин предпослал эпиграф из Саади: «Над этим источником отдыхало много людей, подобных нам, они ушли, словно в мгновение ока». Этот эпиграф поэт повторил и в Евгении Онегине» («Иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал»).
И. Брагинскому в плане Востока наиболее любопытным представляется стихотворение А. Пушкина «Виноград». В связи с этим усвоением поэтики стиха иранского поэта он даже вспоминает о констатируемом многими образе Пушкина как поэта-протея, обладающего исключительным даром перевоплощения в другие культуры. Пытаясь выявить в пушкинском стихе как западные, так и восточные элементы, И. Брагинский говорит о присутствии в нем хафизовского пафоса намека, который впервые высоко оценил в своем «Западно-восточном диване» Гете. Речь идет о том, что в иранском стихе высоко ценится музыкальность, т.е. когда словесные комплексы не выражают прямо определенных эмоций, но провоцируют их появление в воспринимающем. Пытаясь в этой поэтике разобраться, И. Брагинский пишет: «пафос намека - это не просто эзопов язык, который хорошо был известен и западной поэзии, а намеренная, принципиально-иносказательная система образов, сложившаяся в классической иранской поэзии и в чем-то упредившая образную систему «подтекста» в западной поэзии» (76).
Мы сознательно остановились на одном из признаков восточной поэзии, ассимилированной в русской поэзии эпохи романтизма. По сути дела, этот опыт будет продолжен и в поэзии и вообще в искусстве русского Серебряного века, подхватившем намеченную романтизмом тенденцию. Не случайно символизм как наиболее яркое течение рубежа XIX-XX веков называли неоромантизмом. Но перестройка происходит и в других видах искусства, связанных со словом, например, в театре, испытавшем на себе влияние символизма. Когда Н. Гудзий пишет о символизме, он обращает особое внимание поэтов к фиксации мгновения. Однако эти мгновения нуждаются в том, что они каким-то образом связывались в нечто целое. В данном случае исследователь касается специфического построения символистского произведения. Он пишет: «Связь образов тут чисто случайная. Воображению читателя предоставляется самостоятельно объединить и связать их. Символизм поэтому можно назвать «поэзией намеков» (77). Как мы убеждаемся, на первый план в этом наблюдении выдвигаются две особенности - повышенное требование к воспринимающему зрителю и специфическая композиция.
Посмотрим, как это качество проявляется в театре. Известно, какая радикальная реформа развертывается в начале ХХ века в русском театре. В этом смысле любопытны эксперименты В. Мейерхольда по утверждению условного театра. Ранний В. Мейерхольд был близок эстетическим устремлениям символизма. Но В. Мейерхольд относится к тем представителям театра, которые пытались ассимилировать опыт восточного театра. Его увлечение Востоком, кстати, окажет влияние на кинорежиссера С. Эйзенштейна, разрабатывавшего вопросы поэтики кино, используя приемы средневекового китайского и японского театра (78). Излагая систему приемов этого театра, В. Мейерхольд в дневнике 1907 года пишет: «Условный метод полагает в театре четвертого творца - после автора, актера и режиссера; это зритель. Условный театр создает такую инсценировку, где зрителю своим воображением, творчески приходится дорисовывать данные сценой намеки» (79).
Высказывание В. Мейерхольда для культурного синтеза весьма показательно. В нем, как минимум, просматриваются два характерных приема, извлеченные из восточной поэтики - специфическое построение вещи и активное сотворчество в процессе восприятия. Прекрасный знаток восточного искусства Е. Завадская попыталась обобщить суть влияний Востока на искусство ХХ века. В качестве обращающего на себя внимание приема, используемого в восточном искусстве, она называет принцип намека и недосказанности (80).
Так, представляя стилистику стихов японского поэта Басе, писавшего в жанре хайку, Н. Фельдман обращает внимание на то, что такого рода вещи рассчитаны на специфический способ восприятия. Этот способ японцы называют «едзе», т.е. «послечувствование». Другое слово, с помощью которого можно передать смысл этого приема - это «суггестивность». «Задача хайку - пишет исследователь - не показать или рассказать, а только намекнуть; не выразить как можно полней, а, наоборот, сказать как можно меньше; дать только деталь, стимулирующую полное развертывание темы - образа мысли, сцены - в воображении читателя. Эта работа воображения читателя, это «послечувствование» и является неотъемлемой частью эстетического восприятия хайку, - и оно-то менее всего привычно читателю - европейцу» (81). Само собой разумеется, что такой прием присущ не только жанру, в котором пишет Басе, но вообще китайскому и японскому искусству.
В китайском и японском искусстве основной смысл вещи скрыт в подтексте. Анализируя построение драм у модного в начале ХХ века в России драматурга М. Метерлинка, В. Мейерхольд говорит: «В каждом драматическом произведении два диалога - один «внешне необходимый» - это слова, сопровождающие и объясняющие действие, другой «внутренний» - это тот диалог, который зритель должен подслушать не в словах, а в паузах, не в криках, а в молчаниях, не в монологах, а в музыке пластических движений. «Внешне необходимый» диалог построен Метерлинком так, что действующим лицам дано минимальное количество слов при крайнем напряжении действия. И чтобы выявить перед зрителем «внутренний диалог» драм Метерлинка, чтобы помочь ему воспринять этот диалог, - художнику сцены предстоит подыскать новые выразительные средства» (82).
Такой внутренний диалог и есть подтекст, выражаемый уже не словами, а созданием режиссером атмосферы действия. Таким образом, кроме двух признаков восточной поэтики - приема недосказанности и активности воспринимающего в высказывании В. Мейерхольда присутствует и общая установка восточного искусства, связанная с тем, что истина постигается на более глубоком уровне, нежели это позволяет слово. Первое, что бросается в глаза в этом культурном синтезе, как он утверждает себя на рубеже XIX-XX века, - это разочарование в вербальной коммуникации, что воздействует на изменение отношения к некоторым видам искусства, например, на выдвижение на первый план искусств невербальных, меньше всего зависящих от литературы, а именно, живописи и музыки, но, в том числе, и театра. Понижение значимости слова связано с повышением роли мимики и жеста.
Однако и в самой литературе, в частности, в поэзии возникают явления, когда слово преодолевается, уступая место молчанию. Происходит нечто, напоминающее исихазм, только в художественных формах. Но ведь происхождение исихазма тоже связано с Востоком. Это обстоятельство свидетельствует о новой актуальности в русской культуре исихазма и, следовательно, вновь о восточной традиции. В этом смысле особенно показательно творчество поэта - символиста А. Добролюбова.
Положение А. Добролюбова в истории символизма является совершенно исключительным. До некоторых пор смысл его творчества не был понят. Нельзя утверждать, что А. Добролюбов относится к поэтам, которых в России хорошо знают. Первые его поэтические сборники вызывали недоумение, в том, числе и у поэтов. В 1903 году А. Блок написал стихотворение, назвав его именем А. Добролюбова. Оно начиналось так: «Из городского тумана / Посохом землю чертя…» (83). Уже этот факт свидетельствует о том, что имя А. Добролюбова для самих символистов что-то означало. В 1906 году в письме к И. Брюсовой А. Блок признается, что вышедший в 1900 году сборник стихов А. Добролюбова ему известен. Но поэт признается, что его поэзию он не понимает. Однако, прочитав последний его сборник «Невидимая книга» (1905), он начал глубже понимать смысл первого сборника (84). В письме 1915 года, адресованном В. Гиппиусу, написавшему об А. Добролюбове статью, А. Блок признается, что, наконец-то, по-настоящему почувствовал поэзию А. Добролюбова (85).
Известно, что поклонником поэзии А. Добролюбова был вождь движения символистов В. Брюсов, признававший даже его влияние на свое творчество. В 1895 году А. Добролюбов выпустил свой первый сборник стихов «Natura naturans, natura naturata». Исследователи его творчества утверждают, что его стихи предвосхитили многие приемы художественного авангарда (86). В. Брюсов выступал даже организатором и составителем его второго поэтического сборника (1900 г.) и вместе с И. Коневским написал к нему предисловие.
Однако в биографии А. Добролюбова интересно и другое, имеющее прямое отношение к нашей теме. Личность этого поэта, может быть, гораздо более известна, нежели его стихи. Свой творческий путь А. Добролюбов начинал декадентом. Он курил опиум и проповедовал самоубийство. Однако в определенный момент в его отношении к жизни произошел перелом. Утратив интерес к слову и вообще к искусству, А. Добролюбов превратился в странника, начал путешествовать. Фигура поэта интересна в плане психологии русского богоискательства, но не только. А. Добролюбов отправляется на Соловки и становится послушником Соловецкого монастыря. Однако монашеский аскетизм в Соловках длится недолго. А. Добролюбов снова отправляется странствовать и путешествовать.
Важным событием в жизни поэта явилась встреча с Л. Толстым, принявшим его сначала за простого крестьянина, но ощутившего затем в нем идеального последователя своего учения. Этот эпизод из жизни А. Добролюбова превосходно описан Е. Ивановой (87). А. Добролюбов становится сектантом. Он сам основывает в Поволжье секту добролюбовцев. Писать стихи он перестал. Последний сборник его стихов вышел в 1905 году. В течение всей своей жизни он продолжал странствовать и умер в 1945 году. Совершенно очевидно, что поскольку он, обладая поэтическим талантом, пытался уйти от поэзии, от литературы, от слова, от искусства вообще, то эти подробности его биографии свидетельствуют о близости его идеала восточным учениям. Ведь, по сути дела, смысл его жизни связан с преодолением получившего на Западе гипертрофированное развитие индивидуализма.
В своем творчестве А. Добролюбов словно иллюстрировал тезис А. Шопенгауэра о том, что искусство гения - «это способность пребывать в чистом созерцании, теряться в нем и освобождать познание, существующее первоначально только для служения воле, избавлять его от этого служения, т.е. совершенно упускать из вида свои интересы, свои желания и цели, полностью отрешаться на время от своей личности, оставаясь только чистым познающим субъектом, ясным оком мира, - и это не мгновения, а с таким постоянством, и с такою обдуманностью, какие необходимы, чтобы воспроизвести постигнутое сознательным искусством и «то, что предносится в зыбком явлении, в устойчивой мысли навек закрепить» (88). Стоит ли в данном случае говорить о том, что мысль А. Шопенгауэра о самоотречении в творчестве родилась в результате знакомства философа с восточными учениями. Очевидно, что популярность на рубеже XIX-XX веков у русских поэтов А. Шопенгауэра не была поверхностной.
Такая особенность самоотречения, преодоление индивидуализма владели тогда умами многих. В связи с этим нельзя, например, не обратить внимания на реакцию редактора журнала «Аполлон» С. Маковского на полотна Н. Рериха. Вот какое обобщение он делает, пытаясь проникнуть в суть его творчества. Известный и авторитетный критик этого времени делит художников на два типа: на тех, кто пытается познать тайну индивидуальности и тех, кого «манит тайна души слепой, безликой, общей для целых эпох и народов, проникающей всю стихию жизни, в которой тонет отдельная личность, как слабый ручей в темной глубине подземного мира» (89).
Критик, естественно, относит Н. Рериха ко второму типу. «У людей на холстах Рериха почти не видны лица - пишет он - Они - безликие привидения столетий. Как деревья и звери, как тихие камни мертвых селений, как чудовища старины народной, они слиты со стихией жизни в туманах прошлого. Они - без имени. И не думают, не чувствуют одиноко. Их нет отдельно и как будто не было никогда: словно и прежде, давно, в явной жизни, они жили общей думой и общим чувством, вместе с деревьями и камнями и чудовищами старины» (90).
Что касается А. Добролюбова, то это самоотрицание у него проявилось в гипертрофированной форме. Оно делает поэта не просто сектантом, а, как известно, многие символисты в то время проявляли интерес к сектам, а чем-то напоминающим Франциска Ассизского, что и констатирует в своей статье «Духовное христианство и сектантство» Н. Бердяев (91) Но поскольку биография А. Добролюбова связана с отрицанием не только слова, но и всей существующей культуры, в том числе, личности, какой мы ее знаем по западной культуре, то Н. Бердяев в его творчестве усматривает буддизм.
Здесь не лишне отметить, что сам А. Добролюбов был знаком с Кораном, Талмудом, учением Лао-цзы, о чем свидетельствует составленный им сборник «Мои вечные спутники, Сборник чистых слов, избранные слова из всех народов, из священных писаний и из книг искателей познания» (92). В этом А. Добролюбов не был одиноким. Так, посвящая свою статью творчеству поэта этого времени А. Голенищева-Кутузова, В. Соловьев прямо ставил вопрос о распространении буддистского настроения в русской поэзии (93). Что касается Н. Бердяева, писавшего об А. Добролюбове, то о нем он прямо пишет: «В нем чувствуется пассивность, высшая покорность, что-то нечеловеческое, уклон к буддизму, к религиозному сознанию Востока, к чистому монизму, к отрицанию личноственности и индивидуальности. У добролюбовцев, поскольку намечается их духовный тип, нет личности, нет человека, а есть лишь единое общее, лишь Бог» (94).
Некоторые исследователи полагают, что поэзия А. Добролюбова оказала влияние на В. Хлебникова (95). Речь, в частности, идет об отношении поэтического слова и образа как фиксации мгновения (96). Поэт бессилен устанавливать связи между поступающими из мира впечатлениями. В его силах лишь фиксировать отдельные моменты этих впечатлений. Композиция поэмы В. Хлебникова «Ладомир» позволяет задуматься о том приеме, что возник в русском символизме, который тоже ассоциируется с поэтикой восточного искусства. Речь идет о значимости в творчестве и восприятии мгновения. Но это характерно не только для А. Добролюбова. Считая К. Бальмонта импрессионистом, В. Брюсов писал: «Для него жить - значит быть во мгновениях, отдаваться им… Истинно то, что сказалось сейчас. Что было пред этим, уже не существует. Будущего, быть может, не будет вовсе. Подлинно лишь одно настоящее, только этот миг, только мое сейчас» (97).
Такой импрессионизм уже был открытием романтизма. Романтикам присуще обостренное чувство неповторимости каждого мгновения жизни. Об этом приеме у романтиков В. Жирмунский писал: «Это - импрессионизм чувства, который не ищет длительности, а в каждом мгновении - всей силы и полноты переживания, и отдается до конца «истине мгновения», не стараясь связать ее с противоречивым содержанием других мгновений» (98). Поскольку символизм явился продолжением романтизма, то этот прием не мог в нем не проявиться. Но ведь именно значимость мига, мгновения существенна и для восточного искусства, что отрефлексировано в восточной философии. Так, анализируя «Алтарную сутру Шестого патриарха» Хой-нэна, Е. Завадская обращает внимание на значимость в ней мига и мгновения. Однако у Хой- нэна мгновенность - не только знак быстротекущего времени, но и знак остановленного времени, мгновения, становящегося воплощением вечности.
Согласно восточному мировосприятию, вечность являет себя лишь в быстротекущем времени, в миге, мгновении (99). Это не противоречит и символистам. Так, о поэзии В. Брюсова А. Белый писал: «Везде стремление соединить в символе случайность обыденного явления с его вечным, мировым, не случайным смыслом. И чем случайней поверхность явления, тем величественнее сквозящая в нем Вечность» (100).
Эти слова А. Белого можно отнести и к поэтике В. Хлебникова, о чем свидетельствует его поэма «Ладомир». К этой поэме В. Хлебникова превосходным комментарием может служить высказывание А. Белого в его статье «Эмблематика смысла», написанной в 1909 году и опубликованной в сборнике 1910 года «Символизм». Констатируя эклектизм и стремление сочетать художественные приемы разнообразных культур в новом искусстве, А. Белый пишет: «То действительно новое, что пленяет нас в символизме, есть попытка осветить глубочайшие противоречия современной культуры цветными лучами многообразных культур; мы ныне как бы переживаем все прошлое: Индия, Персия, Египет, как и Греция, как и Средневековье, - оживают, проносятся мимо нас, как проносятся мимо нас эпохи, нам более близкие. Говорят, что в важные часы жизни пред духовным взором человека пролетает вся его жизнь; ныне пред нами пролетает вся жизнь человечества; заключаем отсюда, что для всего человечества пробил важный час его жизни. Мы действительно осязаем что-то новое; но осязаем его в старом; в подавляющем обилии старого - новизна так называемого символизма» (101).
...Подобные документы
Изучение факторов и этапов развития византийской культуры. Характерные особенности византийской культуры и ее становления между Востоком и Западом. Идея слияния церкви и государства. Отличительные черты государственной власти и византийской дипломатии.
реферат [30,0 K], добавлен 28.06.2010Идея форумности культур. Особенности взаимодействия восточной и западной культур. Место России на рубеже между Востоком и Западом. Происхождение восточного и западного типов мышления от различных религиозных традиций. Очаги цивилизации на Востоке.
контрольная работа [36,6 K], добавлен 26.06.2012Трансформация отношений между Востоком и Западом в научно-политическом дискурсе. Механизмы продвижения культурных продуктов в рамках "Халлю". История и характеристика "корейской волны". Влияние современной корейской поп-культуры на российскую молодежь.
курсовая работа [5,6 M], добавлен 24.07.2014Восток, Запад и христианство. Русские историософские школы. О соединяющей роли России. Перспективы и опасности объединения человечества. Кризис Запада есть кризис западного христианства. Фактор рационализма. Соотношение веры и разума. Индивидуализм.
реферат [75,7 K], добавлен 09.10.2008Социокультурные факторы формирования восточно-христианской традиции. Византия - феномен некорпоративного общества. Изучение религиозных различий между Христианским Западом и Востоком. Спор иконоборцев и иконопочитателей. Концепция символических образов.
реферат [24,0 K], добавлен 10.07.2010Отражение истории страны и ее географического положения между Востоком и Западом в русском искусстве. Яркий колорит, асимметрия форм и склонность к реализму и абстракции. Древнерусское искусство: иконостас как иерархическая система священных образов.
презентация [502,9 K], добавлен 11.07.2012Изучение восточной культуры с древнейших времен. Распространенная периодизация древних обществ. Важнейшие характеристики ранней древности. Восточная культура на примере Индии, Китая и Японии. Характеристика основных различий между западом и востоком.
реферат [32,3 K], добавлен 12.06.2015Преподавание французского языка с помощью изучения культурных ценностей Франции. Анализ истории российско-французских отношений. Процесс проникновения достояний французской культуры в ходе установления двусторонних отношений между Францией и Россией.
реферат [28,4 K], добавлен 20.01.2012Основные положения культурологической концепции С. Хантингтона, исследующей историко-культурный процесс. Анализ различий между культурами цивилизаций (народов), их влияние на политические отношения. Тенденции культурной глобализации в современном мире.
статья [25,4 K], добавлен 20.08.2013Современный музейный мир России. Период между мировыми войнами. Становление музейного дела в 1917 - начале 1920-х гг. Массовая национализация культурных ценностей. Сохранение культурного наследия и приобщение к нему. Развитие местных краеведческих музеев.
дипломная работа [132,8 K], добавлен 25.03.2011Музыкальная география как поддисциплина в рамках географии. Исследование различных взаимосвязей, которые формируются между музыкой, пространством и социумом. Диалектичность взаимоотношений между музыкой и географией. Коммуникация музыкальных поклонников.
контрольная работа [36,1 K], добавлен 13.01.2017Реальное бытие культуры - в деятельности человека, в его взаимоотношениях с природой и обществом, в отношениях между людьми. Единство и различие между культурой и природой. Экология и экологическая культура. Социализация и инкультуризация личности.
реферат [45,6 K], добавлен 01.05.2008Этнографическая типология культур. Древний Восток как культура ценностей, его значение в истории общечеловеческой культуры. Типология культурного развития, делящая всю историю человечества на четыре периода: каменный, медный, бронзовый и железный века.
контрольная работа [43,0 K], добавлен 01.02.2016Возникновение культурных контактов между Россией и Италией. Жизненный и творческий путь художников, чья судьба связана с Италией (Брюллов, Лебедев). Определение влияния итальянской культуры на творчество художников, эмигрировавших из России в Италию.
дипломная работа [4,0 M], добавлен 14.10.2013Понятие межкультурной коммуникации как диалога между культурами. Культурная картина мира носителей русского и немецкого языков. Особенности межкультурного диалога. Коммуникативное взаимодействие носителей немецкого и русского языков на бытовом уровне.
дипломная работа [58,0 K], добавлен 18.02.2017Современная культура арабских стран Ближнего Востока. Влияние ислама на личность, семью, нравственные нормы, взаимоотношения между людьми. Исламское право: шариат, теория равенства, отношение к рабству. Культуры народов Кавказа, Турции и Израиля.
курсовая работа [335,3 K], добавлен 17.11.2014Эволюция понятия "Культура". Проявления и направления массовой культуры нашего времени. Жанры массовой культуры. Взаимосвязи между массовой и элитарной культурами. Влияние времени, лексикон, словарь, авторство. Массовая, элитарная и национальная культура.
реферат [43,1 K], добавлен 23.05.2014Религия как явление мировой культуры и источник новых социокультурных ценностей. Понятие богопочитания: связь между человеком (конечным существом) и Богом (абсолютным началом мира). Шаманизм, магия, христианство. Структурные компоненты и функции религии.
реферат [27,9 K], добавлен 01.07.2009Понятие и роль культурного наследия. Концепция культурного консерватизма в Великобритании. Развитие концепции культурного наследия в России и в США. Финансирование культурных объектов. Венецианская конвенция об охране культурного и природного наследия.
контрольная работа [38,0 K], добавлен 08.01.2017Влияние на формирование древнеримской культуры художественных ценностей и традиций двух великих культур античного мира: этрусков и греков. История величайших творений в области архитектуры, скульптуры, живописи, литературы, религии Древнего Рима.
контрольная работа [34,9 K], добавлен 15.01.2011